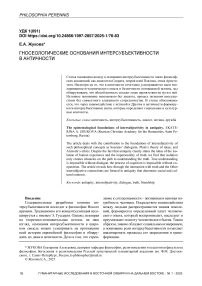Гносеологические основания интерсубъективности в античности
Автор: Жукова Е.А.
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Philosophia perennis
Статья в выпуске: 1 (71), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена вкладу в основания интерсубъективности таких философских концепций, как диалогизм Сократа, теория идей Платона, этика Аристотеля. Несмотря на то, что в античности отчетливо усматриваются идеи изолированности человеческого опыта и безличности познаваемой истины, мы обнаруживаем, что обособленность создает лишь препятствия на пути к ней. Истинное понимание невозможно без диалога, процесс познания неосуществим без совместного слаженного сотрудничества. В статье обосновывается, что через взаимодействие с истиной и Другим в античности формируются интерсубъективные связи, которые определяют социальные и культурные контексты.
Античность, интерсубъективность, диалог, истина, дружба
Короткий адрес: https://sciup.org/170209578
IDR: 170209578 | УДК: 1(091) | DOI: 10.24866/1997-2857/2025-1/76-83
Текст научной статьи Гносеологические основания интерсубъективности в античности
Содержательные разработки понятия интерсубъективности восходят к философии Нового времени. Традиционно его концептуализация ассоциируется с именем Э. Гуссерля. Однако, невзирая на теоретико-познавательные истоки, на наш взгляд, основания интерсубъективности в широком смысле можно усматривать на протяжении всей истории европейской философии и обнаружить их даже в античности. Дело в том, что стрем- ление к согласованности – жизненная и вековая потребность человека. Посредством взаимодействия между людьми распространяются знания поколений, формируется определенный пласт человеческого опыта, который воспроизводит, наследует и преумножает полноту человеческого бытия. Таким образом, знание обладает социальным измерением, а понимание роли интерсубъективности позволяет анализировать процессы его закрепления и трансформации.
Античная философия сформировала основы западной гносеологии, сделав предметом внимания постижение истины и роль индивидуального и социального в этом процессе. Древние греки разработали фундаментальные представления об истине, предложили интерпретации логоса как основы интерсубъективного знания. В представлениях античных мыслителей истина укореняется в социальных, этических и метафизических измерениях, а вопрос интерсубъективности как взаимной доступности к знанию осмысляется через этику общения, диалогическую традицию и социальные практики. Таким образом, проблематика, связанная с познанием, в античности не только задает принцип индивидуального понимания, но и актуализирует познавательный потенциал взаимосвязи субъекта и других. В данной статье будет рассмотрен вклад в основу интерсубъективного знания таких философских концепций, как диалогизм Сократа, теория идей Платона, этика Аристотеля.
Дружба как форма интерсубъективности в античности
«Жизнь сообща» у греков является важнейшей формой социальной организации. «Нет ничего, – пишет Монтень, ссылаясь на античных мыслителей, – к чему бы природа толкала их более, чем к дружескому общению» [11, c. 133]. А. Гагарин уточняет, что в сознании древних греков человек, избравший уединенную, отрешенную жизнь, воспринимался низменным или безумным. Утверждая независимость от мнений толпы, дистанцирующийся человек одновременно будто бы дерзнул заявить о созерцательно-бесстрастной идентификации с идеальной сущностью, единении с безличной истиной [4]. От Аристотеля мы знаем, что природа человека не самодостаточна настолько, чтобы можно было заниматься лишь созерцанием [4], внешнее благополучие для человека совершенно естественно, и социальные отношения также являются компонентами счастья, сколь незначительными бы они ни казались на первый взгляд в сравнении с душевным благом. Тем более что человек, согласно Аристотелю, является «общественным животным», стремящимся к подобным себе. «Никто не выберет жизнь без друзей, даже в обмен на все прочие блага», – утверждает он [2, c. 219]. Эмпирическое сцепление с миром, бытием явлений, жизненным ритмом устанавливается через социальные практики. Соответственно, в противоположность дружбе жизнь в одиночестве является показателем «дефекта», поэтому тот, кто противопоставляет себя остальному миру, а значит позиционирует себя как нетождественный другим, слывет странным, возгордившимся, недобродетельным, не самодостаточным. Такой человек заслуживает порица- ния, высмеивания или даже изгнания. Уже в античности сложилось представление о том, что разобщенность – тупиковый путь, и ее обнаружение должно взывать к соединению.
В диалогах Платон обусловливает дружбу устремленностью к целостности [4, с. 115]. Более полное и однозначное определение у Платона найти сложно. В «Лисиде» собеседники хоть и не конкретизируют определение дружбы, однако выражают ее основную идею: «Нуждающееся дружественно тому, в чем оно нуждается». Аналогичную мысль можно встретить в «Опытах» Монтеня, где он пишет: «Удваивать себя – великое чудо, нет ничего такого наивысшего, что не имело бы подобия» [11, c. 143]. И вновь у Платона: «Подобное подобному вовсе не бесполезно» [13, c. 294–295]. Соответственно, в основании дружеских отношений присутствует нехватка каждого и, как следствие, стремление восполнить ее, а также желание измениться самому и преобразить, «улучшить» другого человека. Из этого следует, что дружба – процесс взаимопроникающий. А.С. Гагарин подытоживает: «…Не только Другое Я («чувство бытия друга») пестуется в душе как собственное творение, но – в обратном направлении – Я друга, также существующее (присутствующее) в душе человека, оказывает творческое воздействие на Я; увеличивая самость Я» [4, с. 117]. Только с эволюцией понятия дружбы греки постепенно осознают право на собственную не порицаемую индивидуальность. Сейчас индивидуальность уже не рассматривается как нетождественная, противопоставленная другим, теперь она составляет межличностное достижение, поскольку такая индивидуальность вписана в культуру, в общество. С точки зрения Э. Гуссерля, было бы правильнее сказать, что не солипсистское Я, а социальное Я с его индивидуальной жизнью формирует историю и окружающий мир. Дошедшие до сегодняшних дней диалоги Платона являются результатом увековечивания памяти Сократа и его учеников. По мнению А.С. Гагарина, дружба прекрасно дополняет известную греческую традицию – сохранение славного имени как непреходящей ценности, «ибо это есть высший духовный способ достижения бессмертия» [4, с. 115]. Сохранение имени основано на интерсубъективной взаимосвязи. Платон закрепил в текстовых формах аргументацию, драматизировал и воплотил человеческую речь и человеческие отношения, поскольку само знание отношений приходит только через отношения между людьми. Реальная бытовая обстановка характеризует героев в диалогах Платона, являющихся отправными точками для последующего анализа. Мудрые речи и признания являются частями сюжетов о Сократе, в которых мы видим постепенные переходы от неведения к знанию [18, p. 56–57]. Другой человек – другое видение, поэтому античная дружба оказывается развитием в направлении самодостаточности, собственной индивидуальности, базирующимся на социальном становлении. Необходимо найти у другого, родственного и подобного себе, то, чего недостает самому, и образовать единство взглядов, некую гармоничную целостность, чтобы в дальнейшем вместе вести поиски и стремиться к совершенному образу жизни в согласии и единении с миром.
Большую роль в достижении гармонии и целостности играют добродетели, добродетельные общественно одобряемые поступки. Аристотель под добродетелью понимает завершенность, ис-полненность и наилучший душевный склад [17, c. 225]. Д. Диллон в исследовании «Наследники Платона» схожим образом пишет о добродетели: «Блаженно все то, что само в себе полно и закончено, а это – свойство добродетели, то ясно, что всякий, кто причастен к добродетели, блажен» [5, c. 173]. Отношение к другу и врагу репрезентирует древнегреческую мораль. А. Тахо-Годи в комментариях к платоновскому диалогу «Лисид» отмечает, что дружба для Платона является одной из главных ступеней восхождения к добродетели [13, c. 548–549]. Согласно Платону, философствование начинается с дружбы. Когда Сократ беседует со своими недругами, например, с Фрасима-хом или Калликлом, их неизбежно загоняют в тупик недоброжелательности и обида, но как только Сократ беседует с единомышленниками, с Глав-коном или с Адеймантом, диалоги достигают философских высот. Для Аристотеля высшая форма дружбы – принцип взаимности в достижении добродетели посредством совместного стремления к благу. В благородных отношениях друзья видят друг друга и впоследствии через друга могут разглядеть и самих себя, ибо в одиночку увидеть себя невозможно. Человек познает себя именно посредством длительного общения с другом [18, p. 104–105]. В «Никомаховой этике» Аристотеля читаем: «…Дружба добрых даже возрастает от общения, ведь принято считать, что такие друзья становятся лучше благодаря воздействию друг на друга и исправлению друг друга; они, конечно, заимствуют друг у друга то, что им нравится, откуда [изречение]: “От добрых добро”» [2, c. 266]. Впоследствии они становятся буквально «одной душой в двух телах», более они не могут брать что-либо друг у друга или давать один другому, все у них становится общим. Но если все же один друг мог что-либо подарить другому, то принявший от друга благодеяние обязал бы его этим: ведь он желает лишь сделать другому благо, а тот, кто предоставляет своему другу возможность и повод к этому, проявляет щедрость, дарует удовлетворение и наслаждение [11, c. 141–142]. В «Горгии» Сократ, обращаясь к Полу, сообщает о том, что друзьями обзаводятся также во избежание ошибок. «Вот и теперь, если мы с Горгием в чем-то ошиблись, ведя свои речи, – ты рядом, ты нас и поправь», – говорит Сократ [12, с. 494]. Знание о добре возможно только через коллективное обсуждение, это делает познание в т.ч. и этическим процессом, укрепляющим связи между людьми. Ошибка зачастую означает незнание своего незнания, а незнание приводит к неправильному, дурному поступку. Поэтому долг друга – предотвращать ошибки. Как справедливо отмечает Сократ, «никто не предпочитает жизнь среди плохих людей жизни среди хороших. … И следовательно, никто из хороших людей не завидует настолько, чтобы не помочь ему стать подобным себе в добродетели» [13, c. 354]. Для Платона и для Сократа характерно утверждение тесной связи между добродетелью и знанием. Стоики, например, также считали, что истина только лишь и достигается путем следования добродетели. Добродетель опирается на внутренний человеческий капитал, «человеческое в человеке», поэтому она взаимодействует с разумом и чувством, с интеллектуальными и культурными содержательными характеристиками человека. Душа является основанием конституирования добродетелей в человеке. Там, где наблюдается «дефицит души», там и добродетель оказывается бессильна.
Очевидно, дружественность обладает нравственным потенциалом и является причастной добродетели, поскольку одна из ее функций – преобразование друг друга. Соотношение двух субъектов – это всегда не что иное, как этика, сопровождающаяся актом признания – признания другого «тела» собеседником, симметричным самому себе, а также формирующая соответствующее отношение к нему. Изначально слово «дружба» означало практическое действие – связку, братство, не сопровождаемое дружескими или какими-либо другими чувствами. Далее оно видоизменяется и начинает подразумевать под собой привычное нам единство и общение душ, сходство мыслей, результат самостоятельно сформированного круга общения. На наш взгляд, это связано с получением доступа к слову, которое играет определяющую и ведущую роль в социальном поле.
Истина, осуществляющаяся в слове
Античная культура, как известно, по преимуществу устная, поэтому logos имеет большую ценность. Слово является весомым именно благодаря его высказанности, можно сказать – именователь-ной силе. Решимостью взять слово характеризуется фигура обособленного и возвышенно-уединенного, внутренне свободного и независимого философа-мудреца, который, начав с устроения собственной души, в конечном счете становится способен к переустройству мира, поставленному перед человеком в качестве задачи. Слово в античности ценно тем, что оно производящее, способное действовать, но не практическим, а смысловым образом. Затрагивающее само бытие, оно обладает потенцией производительности новых смыслов, и смыслы становятся действительностью. Эта идея коррелирует с утверждением Л.С. Выготского о том, что мысль совершается в слове. Слово истолковывает мир и тем самым движет фактическую жизнь определенным образом. Когда слово касается события бытия, оно само происходит как событие и осваивает мир. Слово-событие обретает полноту, энтелехийность. Очевидно, это то, что подразумевал А.Ф. Лосев, говоря о динамически-энергийных зарядах смысла. Гегель справедливо отметил, что, чтобы уметь мыслить, необходимо уметь взять напряжение понятия на себя. Поэтому высказать слово означает совершить усилие по выделению, предъявлению смысла, соответственно, сам акт высказывания неизбежно сопровождается внутренним напряжением, связанным с личной причастностью к энергии высказываемого слова. Следовательно, говорить о себе эквивалентно познанию себя, а с познания себя начинается новое осмысление себя и мира, преобразование пространства вокруг.
Очевидно, что у греков прагматизм мировоззрения (реальное бытие) уступает теоретическому конструированию системы взглядов (идеальному бытию). Платоновские идеи затмевают весь мир, в т.ч. и человека с его отличительными особенностями, поэтому познание направлено в первую очередь на постижение скрытой универсальной гармонии бытия. Пер-воистоки, а не частные убеждения, первостепенны, поэтому античность исходит из приоритета теории над практикой. Платон развивает теорию идей – о том, что истина имеет универсальный и надличностный характер. Знание для Платона является припоминанием идей, существующих в надмировом пространстве. Соответственно, ум, а не навык предназначен для рефлексии о первоначалах и исходных предпосылках. У Аристотеля читаем: «Мудрый не только усматривает то, что вытекает из начал, но пребывает в истине, истинствует относительно самих начал» [2, c. 178–179]. Он пишет, что местом истинствования является именно душа человека, и в связи с этим различает части души по способам их истинствования в зависимости от сущего, которое выходит на свет. Пре-бывание-потаенным и бытие-сокрытым эксплицитно фиксированы как то, что определяет смысл истины [16, c. 122]. Например, он говорит о научной части души, пробуждающейся вопросами об основах мироздания. Фактически абсолютная истина находится за границами эмпирического опыта, она «вечно пребывает вовне, отражаясь в осязаемой и видимой действительности» [1, c. 143], и требует созерцательного, умозрительного подхода. Греки живут ощущением того, что истина – это не просто отвлеченный смысл. Истина как она есть и представление о ней связаны единым способом понимания, это то, что Э. Гуссерль назвал «платоновым гипостазированием». То есть наблюдаемое и наблюдение, предмет и реальность суть одно, трансцендентальные сознанию предметы открываются сознанию именно такими, какие они есть сами по себе. Платон полагает, что адекватное отражение в сознании трансцендентного ему мира возможно, хотя и очень затруднено, а в силу этого осуществляется лишь изредка, частично [14, c. 28] и подвластно лишь мудрецам. Тогда и появляется иллюзия существования объективной истины, наличе-ствования доступа к ней и, как следствие, возникновения стимула ее познать совместными усилиями, путем рассуждений. Однако, надо сказать, что истина как идеальная объективность не вписывается в определенный бытийный регион, и, являясь только в себе самой подразумеваемой, не черпается эксплицитно из суждения, поэтому также в нем изначально не обитает и к нему не относится [16, c. 117]. Впоследствии Э. Гуссерль в работе «Философия как строгая наука» скажет, что философия по своей сущности как раз есть наука об истинных началах. Но истинные начала с античных времен и до сегодняшнего дня не обнаружены, что провоцирует философские споры. К сожалению или к счастью, но, на наш взгляд, ввиду несовершенства познавательных средств человека, окончательность в абстрактных и абсолютных понятиях не может быть достигнута, поэтому истинствующий вид деятельности носит всегда предпосылочный, условный характер. Можно иметь дело с образами идеи, но не с самой идеей. Платоновская абсолютная истина носит вневременной характер, и ее постижение оказывается невозможным не только сиюминутно, но также и в обозримом будущем. В этом заключается драма человеческой мысли, но в то же время здесь есть место и надежде, поскольку гносеологические операции по выявлению существенных признаков, идеализация и теоретизирование формируют аппарат интерсубъективного обоснования в виде теоретической базы для будущих исследований.
Мы выяснили, что истина не открывается исключительно одному субъекту сознания, припоминающему идеальные прообразы мира идей. Другой – условие возможности познания, он выступает внешним источником проблематизации чего бы то ни было. Соответственно, обретение нового знания, а также его осмысление происходит и воплощается в отношениях с собеседниками. Интеракция с другими в античности осуществляется через коммуникацию. Знаменитый платоновский «текст в лицах» наглядно иллюстрирует то, что достоверное открывается не в индивидуальном ментальном опыте, но в некоторой коммуникативной целостности, в диалоге, где препятствия на пути мышления преодолеваются сообща. В диалоге духовное движение мысли удовлетворяется и как бы насыщается бытием в устном слове. Дело в том, что смысл рассуждений об истинах сохраняется лишь в соотнесении с субъективностью, которая может переживать и синтезировать их в опыте, истины должны соотноситься с примордиальным фактическим опытом субъективности [8, c. 186], необходимо позволять предмету для себя, из самого себя «проявляться» в качестве его самого, а далее, основываясь на явлении предмета, черпать интерпретации и обсуждения [16, c. 121]. Совместные «игры ума» с отвлеченными предметами способствуют этому. Взаимодействие с другими позволяет выйти на новый уровень познания, приблизиться к истине, но, разумеется, к истине, не имеющей ничего общего с абсолютной.
А.Г. Черняков, анализируя Аристотеля, также дифференцирует части души: «Научная часть души открывает то сущее, начала которого не могут быть иными, они принадлежат неизменному, безотносительному, вечному. Другой же, размышляющей-рассчитывающей части души, открыто то, начала чего могут быть и такими, и иными, относятся к изменчивому, событийному, ситуативному, к тому, что распахивается в мгновение ока» [17, c. 227]. Аристотель считает бытие-потаенным позитивным самим по себе, где сущее в модусе как своих возможных «как-что-определенностей» не просто здесь налицо, оно есть как «задача» [16, c. 122]. Парменид обозначает это подвижной эмпирической видимостью, утверждающей множественность мира и формирующей мнение в противовес научной части души, занятой разумным созерцанием. Дело в том, что, как и потенциальная бесконечно далекая первооснова, так и актуальный предельно близкий план бытия обладают важностью для человека, поэтому и изменчивость окружающего мира, и примыкающие к реальному опыту случайные интерпретации и субъективные предубеждения являются предметами «истинствования».
Такого рода «истина» проистекает из индивидуальных созерцаний и всегда является становящейся. Она обнаруживается здесь и сейчас, в действительности, в активности окружающего мира. Истина «разлита» в мире и отражается в каждом человеке лишь фрагментарно. Такое непостоянство и, в некотором смысле, неполноценность отражающегося в душе человека мира требует того, чтобы актуализировать, оживить диалог между людьми. Незафиксированная истина нуждается в размышлении, осмыслении, назывании; она характеризуется бесконечным углублением и непрерывным воспроизводством – данный процесс мы сейчас называем производством и конфигурацией смыслов. Смыслы базируются на подвижных языковых структурах, которые влияют на познание и понимание вступающих в коммуникацию субъектов. Ю.С. Моркина полагает, что смыслопорождение является сущностной особенностью человеческого бытия, оно присуще только человеку, поэтому смыслопорождение носит исключительно социальный характер. Смыслы возникают, воспроизводятся и функционируют в пространстве интерсубъективности [7, c. 322–323], и они закономерно представляют неустойчивые структуры, полностью зависящие от восприятия, репрезентации и интерпретации, поскольку носитель смысла – несовершенный, неидеальный человек.
Познавательные стратегии античного диалога
Диалог является специфическим феноменом античности, его цель – понимание и удержание смыслов. Более того, живая речь доносит мысль более полно, проникновенно, непосредственно, личностно, убедительно раскрывая заложенные в нем смыслы и позволяя их продуктивно интери-оризировать [6]. В «Диалогах» Платон демонстрирует условие неоднозначности для всякого самостоятельного мыслительного определения, а потребность в беседе лишь подтверждает противоречивый характер мышления и его интерсубъективную природу. М. Фуко в работе «Герменевтика субъекта» подчеркивает, что истина не дается субъекту простым актом познания. Необходимо, чтобы субъект менялся, изымал себя из личных обстоятельств и становился отличным от себя самого. Только подобное преобразование предоставит доступ субъекту к истине, ибо такой, какой есть, он к ней не способен. Это сопоставимо с переходами из пещеры в дневной свет и оттуда обратно в пещеру в платоновской притче. М. Хайдеггер пишет об этом процессе преобразования так: «Человек может или из своего едва замечаемого незнания попасть туда, где сущее кажет ему себя существеннее… Душа не сразу и лишь в соответствующей последовательности шагов должна свыкаться с областью сущего, которой она отдана. Почему, однако, привыкание к каждой из областей должно быть постепенным и медленным? Потому что перемена касается бытия человека и происходит в основе его существа» [15, c. 349]. Другой человек также может оказаться предпосылкой этих изменений. Диалог оказывается организованной формой социального познания, этакого интер-состояния вместе с его взаимозависимостями и отражением мира в собеседниках, а собеседников – друг в друге. Пространство диалога характеризуется живостью, подвижностью мышления и вечной постановкой новых вопросов. Диалог – это и особая общность познающих нечто участников, и смысловое поле воспринимаемого ими знания [7, c. 307]. А.В. Ахутин подчеркивает: «Мыслящее слово не информирует, а трансформирует. Когда удается подумать, случается понять – тот, кому это удалось, уже не тот» [3, c. 126–134]. Думающий в эти моменты примеряет различные способы бытия.
М. Мамардашвили в лекциях об античности говорит, что все платоновские диалоги – это казуистическое хождение вокруг понятий и оперирование ими без какой-либо окончательности. Они суть непрекращающиеся попытки преодоления затруднений, они – лишь предначертания, направляющие дальнейшие движения мысли. Однако сам акт высказывания разрушает основу и возможность мышления, потому что все мышление, которое не движется в лоне Одного, или бытия, разрушается самой попыткой этого мышления или этого высказывания [10, c. 43–45]. Вспоминается мысль Л. Витгенштейна, дополняющая эту идею: «Заложив твердый фундамент однажды, ты больше не можешь его трогать или сдвигать с места. В философии мы не закладываем фундамент, а приводим в порядок комнату, в процессе чего мы должны все трогать по многу раз. Естественный путь заниматься философией – это трогать все по два раза» [9, c. 293]. Охваченность и неподвижность – не те критерии, по которым можно судить понятия и явления. То, что кажется доступным, в конечном счете в момент высказывания ускользает, подвергается перестановке, меняет привычные основания и таким образом демонстрирует способы «быть». Сократ, понимая это, не следует кратчайшим путем. Ведь после разъяснений Сократа у собеседников остается только недоумение, как отмечает А.Ф. Лосев. То, что раньше казалось ясным и понятным, становится смутным и неопределенным, обязательно требующим дальнейшего исследования [12, c. 15]. Сократ словно агент трансцендентального бытия, создавая трудности, не намеревается давать окончательный ответ, да и знает ли он его? Сократ ведет игру внутри logos, пребывает в поисках формулировок, он лишь вводит слушателя в область бытийного мышления, в ту самую комнату, где слушатель, трогая все по нескольку раз, сам пытается обнаружить этот порядок и задать ему определенную форму – прийти к пониманию. Диалог – это специфический феномен античности, его цель состоит в понимании и удержании смыслов, а также направлении к знанию, истине. Он стимулирует переход от прежнего понимания реальности к познанию ее новых элементов, к изучению многообразия связей бытия. Личный опыт человека ограничен, он не может вместить всего, но место непонимания всегда может быть уступлено пониманию благодаря диалогу, а интерсубъективные модификации являются предпосылкой этих изменений.
Заключение
Гносеологические основания интерсубъективности в античной философии формируют модель познания, которая демонстрирует, что познание не только индивидуально, но и социально. Античная мысль утверждает, что истина и познание требуют включенности субъекта во взаимоотношения с другими людьми (мы видим это на примере дружбы, цель которой – в т.ч. иметь компаньона на пути к гармоничному бытию), а также учета субъектом моральных норм, что подчеркивает этический аспект знания. Соответственно, знание также служит социальной гармонии и благу, оно может стать инструментом установления справедливости.
Вектор познавательного поиска задается в устном диалоге с другими, именно в диалоге эйдос способен проявиться, выйти на свет. В устной беседе, через синтез индивидуального и социального, усилие направляется навстречу истине, бытийным смыслам, добродетели, благу. Диалог как органическая целостность, как пространство мыс-лепорождения восприимчив к притоку идей, он фиксирует результаты мысленных экспериментов и дает силу новым идеям, а мысль, в свою очередь, никогда не бывает закончена, она порождает новые решения. Человек обладает системой накапливания знаний и их передачи, которая и приводит к социальной эволюции. Знание являет себя в разных формулировках, интерпретациях, подходах, и в дальнейшем оно продолжает обновляться, уточняться или устаревать в пространстве интерсубъективности. Таким образом, античная мысль предлагает актуальную модель познания, где истина становится общей ценностью, всегда открытой для коллективного поиска.