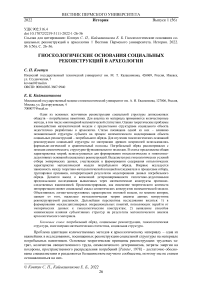Гносеологические основания социальных реконструкций в археологии
Автор: Ковтун С.П., Каймашникова Е.Б.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Этнология и археология
Статья в выпуске: 1 (56), 2022 года.
Бесплатный доступ
Один из основных источников реконструкции социальной структуры дописьменных обществ - погребальные памятники. Для анализа их материала применяются количественные методы, в том числе многомерной математической статистики. Однако теоретические проблемы взаимодействия математической модели с предметными структурами социального объекта недостаточно разработаны в археологии. Статья посвящена одной из них - влиянию познавательной структуры субъекта на процесс математического моделирования объекта социальных реконструкций - погребального обряда. Для изучения гносеологических оснований реконструкции социальной структуры по материалам древних некрополей использовались формально-логический и сравнительный подходы. Погребальный обряд рассматривался с позиции семиотического, структурно-функционального подходов. В статье представлена общая характеристика теорий, использующихся для формирования гносеологических и гипотетико-дедуктивных оснований социальных реконструкций. Выделяется ряд гносеологических условий отбора эмпирических данных, участвующих в формировании содержания онтологических характеристик математической модели погребального обряда. Впервые исследуется зависимость между теоретико-методологической позицией исследователя и процессами отбора, группировки признаков, интерпретацией результатов моделирования данных погребального обряда. Делается вывод о возможной детерминированности гипотетико-дедуктивными предпосылками исследования выявленных через математические конструкты причинно-следственных взаимосвязей. Продемонстрировано, как изменение теоретического контекста интерпретации меняет социальный смысл семиотических конструктов математической модели. Объективность логико-конструктивных характеристик итоговой модели, по мнению авторов, зависит от того, насколько методологическая теория анализа данных конгруэнтна реконструируемой реальности. Дальнейшая перспектива исследования видится: 1) в формировании междисциплинарных операциональных понятий, позволяющих перейти от эмпирических данных к гносеологическим конструктам; 2) выявление способов минимизации влияния субъективных структур на результаты математического анализа археологического материала.
Погребальный обряд, социальные реконструкции, гносеологическая структура, многомерная математическая статистика, социальная структура
Короткий адрес: https://sciup.org/147246407
IDR: 147246407 | УДК: 902:316.4 | DOI: 10.17072/2219-3111-2022-1-26-36
Текст научной статьи Гносеологические основания социальных реконструкций в археологии
Также широко представлена в соответствующей литературе историография применения количественных методов в археологии на материалах погребальных памятников [ Шмуратко , 2007, 2013; Коробов , 2003 и др.]. Сравнение эффективности различных количественных методов приводит к выводу о преимуществе создания математических моделей закономерностей погребального обряда или групп погребений при помощи многомерной статистики, а именно – факторного и кластерного анализов [ Шмуратко , 2007, с. 96].
Анализ работ на данную тему показывает, что математическое моделирование в археологии обладает немалым эвристическим потенциалом. Однако, будет ли он реализован, зависит от многих условий. Одно из них – глубокое теоретическое осмысление математического аппарата данных методик применительно к конкретной познавательной ситуации, что, на наш взгляд, осуществлено в археологии не в полной мере. Отечественные исследователи, использовавшие факторный и кластерный анализ в социальных реконструкциях на материале могильников [ Коробов , 2003; Шмуратко , 2012], представляли в своих работах лишь общее описание методики и историко-социологические интерпретации результатов. При этом специально не рассматривались причины, которые привели к получению именно таких, а не иных групп признаков, если речь идет о факторном анализе, и групп объектов – в случае с кластеризацией. Как отмечает А. О. Крыштановский в своей работе, посвященной анализу некоторых ограничений применения методов многомерной статистики в социологических исследованиях, качество результатов методов многомерной статистики «верифицируется лишь критерием “правдоподобности”, что целиком находится в руках исследователя» [ Крыштановский , 2005, с. 187].
Данная статья – попытка осмыслить, как соотносятся между собой математическая модель погребений и ее гносеологические основания. Для этого предлагается сначала определить методологический подход авторов к определению математической модели, выявить типы отношений и взаимосвязей элементов социального объекта – погребального обряда и предмета социальных реконструкций – социальной структуры. Далее представляется необходимым определить и охарактеризовать гносеологические характеристики модели и соотнести их с предметными структурами исследования.
Понятие математической модели в общем виде достаточно разработано в отечественной историографии. Так, А. В. Чусов определяет ее как «представление структуры на множестве» [ Чусов , 2006, с. 177]. В понимании Е. М. Вечтомова математическая модель – «это приближенный идеализированный образ данного явления, выраженный на предметном языке <…>» [ Вечтомов , 2011, c. 8]. Существует также распространенное в логике определение модели как интерпретации формального языка [ Чусов , 2006, c. 184]. В целом объединяющие моменты упомянутых дефиниций заключаются в понимании того, что математическая модель – это самостоятельный целостный объект и одновременно идеация эмпирического объекта. Ее гносеологическая структура обусловлена предметным языком дисциплины, которой она служит. В модели реализуются как идеализированный инвариант структуры самого объекта, так и условия, методы ее создания.
Погребальный обряд представляет собой сложный социокультурный феномен. В отечественной археологии его принято рассматривать как систему социальных (ритуальных) действий по созданию погребений [Лагуткина, 2010, с. 23]. Однако в процессе создания баз данных формализации подвергаются не действия, а их результаты. Они имеют вид системы признаков погребального памятника и представляют собой отдельный текст – полиструктурную знаково-символическую систему, в которой зашифрованы смыслы различных уровней (подструктур): материального (система технологий, включая технологию создания могильного сооружения, изготовления отдельных вещей); прагматического (значение в похоронном процессе); ментального (система ментальных кодов общества); мифологического (функции элементов погребения в загробном мире). В артефактах погребальных памятников они воплощаются синкретически, что соответствует характеру мировоззрения древнего общества. Значит, все перечисленные смыслы могут быть воплощены в одном элементе погребения, фиксируемом исследователем как признак, причем не всегда одним и тем же образом. Их дифференциацию осуществляет сам исследователь на стадии отбора данных и их формализации. Этот процесс осуществляется отнюдь не произвольно, а в определенных гносеологических условиях (будут рассмотрены в дальнейшем). В связи с этим в семиотической системе формализованных признаков погребального обряда можно выделить еще один уровень представления субъекта о семиотической реальности погребального обряда – гносеологический. Рассмотрим гносеологические условия формирования математической модели погребального обряда на примере факторной.
В факторной модели формализованные артефакты – переменные – считаются следствием других, глубинных, скрытых от непосредственного измерения характеристик – латентных переменных, вошедших в ее содержание. Латентные переменные – это факторы – причины неоднородности объектов (погребений). Основная информация о факторах отражена в факторных нагрузках. В модели они имеют вид взаимосвязанных количественных показателей. Задача исследователя – их интерпретация, от которой зависят понимание и последующее объяснение взаимосвязи погребального обряда с социальной структурой общества – предметом социальных реконструкций. Из переменных, факторов, факторных нагрузок состоит онтологическая структура модели. В процессе анализа корреляций фактора с исходными переменными каждый фактор должен быть переведен в какое-либо социальное понятие, объясняющее его генезис и значение.
Итак, гносеологические характеристики модели создаются на этапе формирования базы данных. Их истоки следует искать, во-первых, в уровне специальной подготовки субъекта (владение методологией исследования); во-вторых, в условиях и способах, качестве раскопок. Важная проблема, от решения которой зависит изоморфность модели, – качество эмпирических данных, редуцируемых в свойства онтологических конструктов. Необходимость всестороннего изучения погребального обряда как социального объекта диктует необходимость учета всех его элементов. Однако фактически такое всеобъемлющее описание погребального обряда невозможно ввиду неудовлетворительной сохранности значительной части археологического материала и ограниченных технических возможностей его идентификации. В-третьих, на гносеологическую ситуацию оказывают влияние ценности исследователя и его теоретическая подготовка, приверженность определенным методологическим подходам и социологическим знаниям. С их позиции осуществляется полевой сбор данных, отраженных в отчетах и графических изображениях объектов, их формализация и классификация, а также восприятие промежуточных и итоговых результатов факторного анализа. Рассмотрим возможные теоретические основания социальных реконструкций.
Наиболее авторитетными традиционными теориями исследования социальной жизни по археологическим остаткам считаются историзм, эволюционизм и структурно-функциональный подход. Каждый из них актуализирует в исследовательском поле зрения определенные структуры объекта и предмета исследования.
Историзм применительно к предмету социальных реконструкций на материалах погребальных памятников ориентирует на фиксацию изменений погребального обряда во времени. Предполагается, что характер, содержание и причины изменений объясняются историческими событиями, синхронными времени создания и использования могильника. Л. Морган формулирует один из принципов историзма для изучения древних обществ: «Там, где существует внут-риконтинентальная связь, все племена в той или иной мере обязательно участвуют в развитии друг друга» [ Уайт , 2004, с. 479]. Однако историзм не исключает интерес к вневременным факторам культуры. Среди них Л. Морган в качестве наиважнейшего выделял диффузию [ Morgan , 1997, р. 40]. Ученый обращал внимание на взаимосвязь структур различных форм хозяйствования и быта: строительства и архитектуры жилищ, землевладения, распределения, потребление материальных благ.
Историзм – основополагающий принцип современного культурно-исторического подхода. Он используется при объяснении изменчивости социальной структуры и обнаружении ее в погребальном обряде. Например, в процессе реконструкции социальной структуры верхнекамского населения VIII–IX вв. С. П. Ковтун обращает внимание на то, как меняется с течением времени набор погребального инвентаря в группе погребений верхней социальной страты. В IV–VI вв. маркирующие признаки измерялись в основном трудовыми затратами на сооружение погребений. Это признаки метрики – «превышающие норму длина и глубина могил» [ Ковтун , 2010, c. 49]. Набор вещей в могиле представлен минимальным набором вооружения: клинком, наконечниками стрел. В IХ в. он пополнился редкими предметами прикамского импорта: серебряными монетами, поясной гарнитурой (по два пояса), саблями [Там же, с. 50–51].
Появление новых элементов сопроводительного инвентаря и изменение традиционных технологий изготовления отдельных вещей могут объясняться миграционными процессами, усилившимися мирными и военными контактами местного населения с другими народами – угорскими и тюркоязычными группами протовенгров и ранних болгар. В работах Р. Д. Голдиной обосновывается, что с IX в. развиваются контакты пермян с Прибалтикой. «Бесспорным свидетельством» таких контактов исследователь считает находки неволинских поясов [ Голдина , 2019, с. 43]. Они собирались местными мастерами, их находки обнаружены на финском побережье Балтийского моря, в Швеции [Там же, с. 44].
Таким образом, руководствуясь принципом историзма, археологи фиксируют в первую очередь признаки, отражающие новации. Индикаторы появления новых обычаев и технологий фиксируются как репрезентативные переменные. Через наличие взаимосвязей между ними и переменными, отражающими традиционные элементы погребений, исследователи стремятся проследить и объяснить изменчивость социальных структур.
Другая распространенная теория – эволюционизм (основоположник – Л. Уайт). В соответствии с ней ведется исследование структуры погребального обряда через изучение форм социальной организации [ Уайт , 2004]. Предполагается их генетическая связь на период функционирования могильника. Эволюция структуры погребального обряда отражает изменение форм социальной организации. Критерии формирования базы данных выстраиваются на попытках исследователей понять прагматическую символику погребального обряда. Отбираются элементы, напрямую связанные с прижизненной социальной ролью индивида (воина, кузнеца, шамана и т.п.), или их символические заместители. В исследованиях западноевропейских ученых формулируются археологические маркеры наиболее богатых социальных страт: престижные ценности и многообразие вещей в могилах [ Périn , 1998; Périn , Kazanski , 1996]. Во всех случаях признаки фиксируются в категориях факта наличия тех или иных элементов погребения. Игнорируется, что каждая вещь – самостоятельный полиструктурный объект и может быть охарактеризована также с точки зрения семантики, формы, места в пространстве могилы и относительно умершего и других объектов погребения.
В случаях, если исследование ведется с позиции вневременных взаимодействий разных культурных комплексов, реализуется функционально-структуралистский подход (основоположники – А. Рэдклифф-Браун, Ф. Боас). Главное внимание уделяется типам взаимосвязи отдельных элементов погребального обряда между собой и другими элементами культуры: мифами, бытом, прикладным искусством, технологиями [ Рэдклифф-Браун , 2001]. Структуралистски ориентированный исследователь будет искать в эмпирическом материале прежде всего остатки мифологических структур. Признаки погребального обряда рассматриваются им не столько с позиции прагматического смысла, сколько в качестве социокультурного феномена, на основании принципа символического детерминизма.
Структурализм и эволюционизм в значительной мере повлияли на американскую «процессуальную археологию» или функциональный процессуализм. Например, один из ее представителей – Л. Бинфорд – развивает теорию «социальной личности» [ Binford , 1971]. В соответствии с данной теорией символы социальной личности (половозрастные характеристики, социальное положение и связь с определенной социальной группой, обстоятельства смерти) воплощены в универсальных элементах структуры погребений. Однако им свойственно разнообразие семантического содержания. Например, пол умершего маркируется типом сопроводительного инвентаря и ориентировкой, имеющим различное содержание для разных культур.
Довольно часто все перечисленные подходы интегрированы в одном исследовании (системный подход), что позволяет рассматривать погребальный обряд как подсистему сложной, открытой культурно-исторической системы древнего социума. Его структура – результат интегративного действия социокультурных причин различного происхождения: исторических, структурно-функциональных, эволюционных. Свойства ее подсистем развиваются как в процессе активного внутреннего взаимодействия между собой, так и под воздействием внешних факторов. Обрядность связана с нуминозным опытом древних обществ, погребальные памятники создаются на протяжении жизни многих поколений. Поэтому связь между ритмами, характером изменений в обществе и его обычаями не всегда синхронна. Следовательно, структу- ра погребального обряда – инвариант реальных социальных взаимодействий, а математическая модель погребального обряда – его идеализация.
Кроме теорий методологического плана, в поле зрения ученого оказываются вопросы соотношения предметных структур исследования с характеристиками объекта. Особое значение это имеет на этапе социальной интерпретации семиотической структуры математической модели.
В обобщенном виде на генезис, изменения и эволюцию социальной структуры оказывают влияние факторы двоякого рода: всеобщие (вневременные, с которыми связана универсальность исторического процесса) и особенные, определяющие целостность социальной системы как культурно-исторического феномена. К первым относятся социальные отношения, связанные с управлением, внешними племенными, межэтническими связями населения, разделением труда, картиной мира и мифологическими представлениями. Они структурируют социальный порядок и регулируют процессы дифференциации и интеграции во всех древних обществах. Ко вторым относятся конкретно-исторические факторы. Главное свойство любой системы – целостность. Следовательно, всеобщие и особенные факторы не действуют по отдельности, а интегрированы в генетических и эволюционных причинах, влияющих на неоднородный характер и содержание погребальной обрядности на различных уровнях ее репрезентации. Рассмотрим их.
-
1. Мифы о загробной онтологии, о возможных посредниках и помощниках для перехода в нее. Наиболее консервативный фактор. Его следы воплощены в общих, универсальных традициях погребального обряда. В мифах реализуются фундаментальные категории древнего общества, связанные с присоблением к внешнему миру и контролем над ним, в сфере ритуала появляются специалисты – жрецы, шаманы, хранители семейно-родовых культов, способные поддерживать гармонию в отношениях коллектива внутри и с внешней средой. Поэтому данный фактор может обусловливать не только наиболее распространенные, общие элементы погребального обряда, но и некоторые особенности группы или отдельных захоронений, принадлежащих таким специалистам, мифологическую стратификацию.
-
2. Разделение труда: половозрастное и профессиональное. Профессиональная дифференциация прослеживается с изменением технологий. Например, в погребениях прикамского населения III–V вв. она находит свое выражение в составе найденного погребального инвентаря: могилы с предметами профессиональной специализации (например, крицы и дроты в погр. 156, 238, 235, 1679, 1850 Тарасовского могильника на Средней Каме (I–V вв.) [ Голдина , Сабиров и др., 2015, c. 38]). Однако половозрастное деление общества не всегда обусловлено только разделением труда, но и ментальными, мировоззренческими факторами: отношением к новорожденным, старикам, половой зрелости, браку, проявляющим себя через ритуал; ношение определенной одежды, аксессуаров и украшений.
Как отмечает Д. В. Шмуратко, характеризуя проблемы предметного поля социальных реконструкций в археологии, ряд исследователей (В. С. Ольховский, И. Л. Кызласов) обращают внимание на возможные искажения прижизненного статуса индивидов в погребальном обряде специфическими текстами мифов о загробном мире [ Шмуратко , 2007, c. 93]. Д. В. Шмуратко, в свою очередь, возражает, ссылаясь на философские идеи А. Ф. Лосева об обусловленности реальных социальных взаимоотношений мифологическими концептами [Там же].
Однако следует заметить, что мифы прижизненной «дхармы» и посмертных требований к человеку, действительно, порой сильно различаются между собой (можно вспомнить изречение Конфуция: «Отдай мертвому все, как будто он был бы жив»). Известно, что многие весьма бедные семьи в Древнем Китае, стремясь устроить роскошные похороны, обеспечивали путешественника в «царство мертвых» вещами, воплощавшими намного больший объем овеществленного труда, чем ему полагалось при жизни. Интересный пример приводит Н. И. Шутова относительно обычаев удмуртов XVI–XIX вв. бросать серебряную монету в могилу взамен снятых с умершего металлических украшений [ Шутова , 1991, c. 14–15]. Статистико-комбинаторный анализ признаков погребального обряда верхнекамского населения V–VII вв., предпринятый С. П. Ковтун, обнаружил следующий момент: «Монеты представлены в сочетании с одним-двумя другими предметами» [ Ковтун , 2010, с. 50]. Если учесть, что металлические украшения и серебряные монеты в раннем средневековье – предметы прикамского импорта, то мы имеем дело с символическим отражением как минимум двух возможных типов социальных отношений: мифологического и социально-экономического. Мифологическая функция серебряных монет может указывать на традиционное стремление сородичей умершего соблюсти определенные правила путешествия в загробный мир. Взаимосвязь со скудным инвентарем низводит его обладателей на уровень рядовой страты. Прагматическая функция монет (единица обмена) указывает на иной прижизненный статус погребенного – принадлежность к группе индивидов, принимавших активное участие в торговом обмене и обладавших вследствие этого престижно значимыми ценностями.
Мы полагаем, что в разных обществах структуры мифологической и реальной «социальной персоны» не всегда изоморфны друг другу. Это справедливо и в том случае, если социальные отношения, что следует из теории «Диалектики мифа» Лосева, генетически связаны с мифами.
Таким образом, вопрос о том, что определяет в похоронных обычаях содержание погребения – мифы о посмертных требованиях к индивиду или представления о реальном статусе индивида в социальных взаимодействиях, – вопрос о курице и яйце. В разных социумах могут быть обнаружены обе линии детерминации. В том числе возможен вариант, когда в погребальном обряде в той или иной степени одновременно опосредуются как мифы о загробном существовании, так и прижизненный социальный миф или представления о персоне умершего.
Следует учитывать, что социальная дифференциация, в том числе половозрастная, – это не биологический, а культурный феномен. Следовательно, она опосредована через знаковосимволические структуры, специфические для каждой культуры. Как отмечал Л. Уайт, «в некоторых обществах понимание пола с точки зрения культуры может перекрывать проявление пола, понимаемого биологически» [ Уайт , 2004, c. 245]. У первобытных народов известно существование так называемых бердаче – мальчиков, которые по достижении половой зрелости усваивают женский костюм и женское поведение; «…имеют место и случаи, когда девочки становятся мужчинами» [Там же, c. 244]. В определенных системах родства «мужчина может жениться на ноге другого мужчины или на дереве; женщина может жениться на другой женщине и стать «отцом» ее потомства» [Там же, c. 245]. Поэтому биологические маркеры возраста должны быть осмыслены не только с позиции универсального принципа половозрастного разделения труда, но и на основании культурологического фактора, принятого в конкретном социуме. В таком случае вопрос формирования выборки предполагает два возможных подхода, когда:
-
1) захоронения индивидов разного пола и возраста анализируются отдельно на основании достоверных антропологических определений;
-
2) выборка формируется без учета антропологических определений с целью выявления культурно обусловленных археологических маркеров социальных, а не только биологических определений половозрастной дифференциации; далее проводится повторная корреляция полученных факторов с антропологическими данными.
-
3. Обстоятельства смерти, диктуемыми уникальными событиями в жизни отдельного индивида или коллектива (эпидемии, военные конфликты, исполнение требований юридического характера, например, совершение индивидом перед смертью поступка, который заставляет сородичей менять его посмертный социальный статус). Данный фактор носит специфический, частный характер. Не являясь частью закономерностей погребального обряда, он может определять уникальные черты отдельного захоронения или группы. Однако единичные признаки вообще оказываются за пределами математической модели из-за несоответствия критерию оптимизации, а следовательно, происходит утрата и социологической информации.
-
4. Формы управления коллективом и социальной организации, выраженные в военной и ранговой дифференциации . Как отмечает Л. Уайт, статусные классы весьма редки в первобытном обществе [Там же, с. 264–265], появляются с возникновением собственности и в случае большого притока военнопленных [Там же, с. 261]. Так, например, в прикамских могильниках с начала I тыс. н. э. встречаются захоронения, резко выделяющиеся по предметам воинского вооружения и экипировки, например погр. 1685, 1784 Тарасовского могильника [ Голдина и др., 2015, с. 48], где были найдены мечи и элементы защитного вооружения: панцирь, железный
-
5. Экономические и военно-политические взаимодействия с другими народами, особенно если памятник функционировал дольше жизни одного поколения. В этом случае обусловливают не только изменение традиций захоронения на одном и том же памятнике, но и новации в погребальном наборе и технологиях изготовления составляющих его вещей. Так, например, материал Тарасовского могильника в Прикамье отражает изменения моды: в могилах появлялись вещи, ранее встречавшиеся в археологических памятниках сарматов, носителей кара-абызской культуры и др. [Там же, 2017, с. 172–173]. Появление новаций в ходе экономического, военного взаимодействия, ассимиляционных процессов могло привести к доступности новых предметов импорта для одних и к ограничению к ним доступа для других. Ассимиляция пришельцев с местным населением, экономический обмен, усвоение новых технологий и захват престижных ценностей в военном конфликте – частые причины развития имущественной и потестарной дифференциации.
-
6. Семейная организация. Оказывает влияние на неравномерное расположение могил на территории памятника, что передается обычно в его планиграфии. Взаимодействуя с мифологическими структурами, семейная дифференциация может найти свое выражение в своеобразии вещевого набора в могиле (находки предметов, связанных с семейно-родовыми культами и традициями). Однако такое проявление особенностей осознания отдельными семьями мифологических традиций всего коллектива в целом, на наш взгляд, не характерно для древних обществ, где каждый представитель социума еще не отделяет свое происхождение и жизнь от тела социума.
В первом случае при сокращении выборки путем включения в нее только объектов с полной картиной антропологических и археологических данных ее объем может оказаться недостаточным для решения поставленных задач. Во втором случае возникает проблема дифференциации социальных значений большого числа многообразных факторов.
шлем с бармицей, кольчуга. С одной стороны, это позволяет выдвинуть гипотезу о наличии военно-ранговой стратификации у раннесредневековых прикамских народов. Историческим условием для ее возникновения могли быть военные конфликты эпохи Великого переселения народов, в которые было втянуто раннесредневековое население Прикамья.
С другой стороны, маркеры воинского ранга не так неоднозначны, как может показаться на первый взгляд. Так, например, в прикамских могильниках известны находки железных про-ушных топоров. Как отмечают исследователи, «в погребениях Тарасова проушные топоры часто встречались с секировидными изделиями» [ Голдина , Бернц , 2017, с. 181]. Их функция строго не установлена. С прагматической точки зрения они могут иметь значение боевого оружия. Между тем исследователи не исключают их использование как единиц обмена [Там же, с. 182], следовательно, они могли оказаться не только в воинских захоронениях. Обе функции не исключают их особого рангового значения в жизни умерших – причастности к определенному социальному статусу (экономическому, военно-политическому, половозрастному). Кроме того, топор в составе погребального инвентаря мог появиться в силу других обстоятельств: дара родственников, находки или отчуждения во время военных действий, как средство труда ремесленника, использовавшего секировидную заготовку для создания боевого топора, и т.д.
Кроме того, из истории видно, что мода на новые вещи, как правило, возникает в среде социальной элиты, осуществляющей руководство в международных взаимодействиях (например, проникновение новых западных элементов культуры в Россию в конце XVII в. первоначально при дворе Алексея Михайловича). Следствие неравномерного распределения материальных благ – имущественное неравенство и некий культурный разрыв между элитой и рядовым населением. В погребальном обряде символические последствия вышеописанных явлений могут проявлять себя в увеличении многообразия состава погребального набора вещей, в количестве отдельных его предметов, а также в технике и материале изготовления.
Все перечисленные факторы взаимодействуют и могут быть опосредованы элементами похоронного обряда в неодинаковой мере и различными способами символизации. Важная методологическая проблема, от которой зависит объективность интерпретации факторов в математической модели, – их разграничение.
Подведем итоги. Одна из важнейших проблем социальных реконструкций – определить, какой именно инвариант реальной социальной структуры отражает математическая модель погребального обряда. С гносеологической точки зрения объективность выявленных через математические конструкты причинно-следственных взаимосвязей во многом зависит от того, насколько выбранная исследователями теория объяснения социальной реальности конгруэнтна самой реальности. Признак, отраженный в переменной, представляет собой гносеологический факт. Он создается на основании представлений о том, какие типы отношений и взаимосвязей между элементами погребального обряда наиболее социоинформативны и адекватны предмету исследования.
Математические референции всегда однозначны и конкретны, в отличие от социологических и культурологических, учитывающих многообразие социальной реальности. Синкретизм структур погребального обряда снижает качества математической модели из-за трудности перевода семиотических структур объекта в формализованные языковые конструкции. Поэтому уже первичная статистическая обработка данных подразумевает совместное принятие математиком и археологом целого ряда неформальных решений: задачи выбора критериев выборки погребений; определения содержания признаков, подлежащих формализации; принципов их классификации в соответствии с эпистемологическими возможностями программ и дискретной сетки переменных.
Сообразно представлениям модели общие факторы должны оказаться максимально автономными друг от друга, т.е. каждая группа переменных индексируется одним фактором и не может зависеть от другого. Получение независимых факторов количественного анализа обусловливается смысловым единством переменных, образующих каждый из них. Проблема в том, что в реальности сложно добиться полной независимости факторов друг от друга, так как погребение, погребальный обряд, социальная структура и их математическая модель – самостоятельные по-листруктурные системы. Информация о социальных статусах личности может быть маркирована признаками разных категорий описания одного целостного объекта: формой, количеством, материалом, отношением к другим объектам; местом объекта в системе более сложной вещи. В гносеологической структуре погребения данные характеристики принадлежат к разным ее подсистемам. Однако корреляция признаков – линейный процесс. Во избежание дублирования информации нельзя одновременно анализировать признаки, принадлежащие разным категориям описания одного и того же объекта и признаки, отражающие эти объекты в их целостности. Поэтому стремление учесть все признаки погребального обряда на этапе создания матрицы коэффициентов корреляции идет вразрез с эпистемологическими требованиями модели.
Модель также теряет социоинформативные показатели на этапе построения оптимального числа компонент (метод главных компонент, использующийся для получения контрастных факторных нагрузок). Происходит «отсечение» ряда переменных. Если переменные, объединенные общим фактором, плохо объясняются моделью, с формально-статистической точки зрения они могут не рассматриваться. Но это не означает, что они совсем не участвуют в формировании закономерностей погребального обряда. С культурологической точки зрения исследователь мог просто «не угадать» способ кодировки в системе одного элемента социальной информации, соответствующей значению переменных, имеющих низкие факторные нагрузки. Это доказывает возможную значимость «отсеченных компонент» в формировании закономерностей погребального обряда.
Структура формального текста никогда не охватывает весь социальный объект целиком, актуализируются только те типы отношений и варианты взаимосвязей социальной реальности, которые принимает во внимание сам исследователь в зависимости от целого ряда причин. Выяснение данных причин, на наш взгляд, может способствовать наиболее объективному раскрытию значений гносеологических фактов, участвующих в моделировании. Необходим поиск критериев, выработанных совместно с математиком и специалистами по семиотике, этнологии и этнографии, позволяющих осуществить максимально достоверную идентификацию каждого артефакта и снизить таким образом влияние субъективного фактора на результаты исследования.
Эвристический потенциал методов многомерной статистики должен быть направлен на получение принципиально новых социальных фактов, а не на формальное подтверждение теоретических результатов изучения социальной истории качественными методами, что случается в отдельных исследованиях.
Список литературы Гносеологические основания социальных реконструкций в археологии
- Вечтомов Е.М. Гносеологический статус математических моделей // Вестник Вят. гос. ун-та. 2011. № 4 (4). С. 6-12. EDN: PARKVL
- Голдина Р.Д. Финно-пермский мир в евразийском пространстве (I тыс. до н.э. - I тыс. н.э.) // Историко-культурное наследие народов Урала и Поволжья. 2019. № 2 (7). С. 39-48. EDN: ADXGYG
- Голдина Р.Д., Бернц В.А. Хронология мужских погребений I-II вв. Тарасовского могильника // Поволжская археология. 2017. № 1 (19). С. 172-198. EDN: YIXXXN
- Голдина Р.Д., Сабиров Т.Р., Сабирова Т.М. Погребальный обряд Тарасовского могильника I-V вв. на Средней Каме. Казань; Ижевск: Ин-т археологии АН РТ, 2015. Т. III. 297 с. EDN: WIXRWH
- Ковтун С.П. К вопросу о социальной структуре раннесредневекового населения Верхнего Прикамья (по материалам неволинских могильников IV-V вв.) // Археология, этнография и антропология Евразии. 2010. № 1 (41). С. 44-52. EDN: LBDKEF