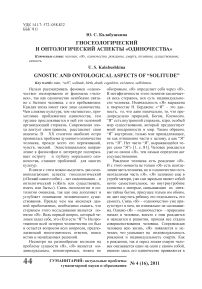Гносеологический и онтологический аспекты «одиночества»
Автор: Калабушкина Юлия Станиславовна
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 4 (16), 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается проблема соотношения «Я» и «одиночества». Гносеологический и онтологический аспекты позволяют глубже понять сущность этих феноменов, что приводит к более глубокому анализу сущности человека.
Человек, "я", одиночество, рождение, смерть, познание, существование, самость
Короткий адрес: https://sciup.org/14720649
IDR: 14720649 | УДК: 141.7:
Текст научной статьи Гносеологический и онтологический аспекты «одиночества»
Нельзя рассматривать феномен «одиночество» изолированно от феномена «человек», так как одиночество неизбежно связано с бытием человека, с его пребыванием. Каждая эпоха имеет свое лицо одиночества. Чем сложнее культура, тем «ветвистее», прихотливее проблематика одиночества, тем труднее прослеживается в ней его основной организующий стержень. Современная эпоха диктует свои правила, расставляет свои акценты. В XX столетии наиболее остро проявилась проблема духовного одиночества человека, прежде всего его переживаний, чувств, эмоций. Экзистенциальное направление в философии и литературе подчеркивает остроту и глубину морального одиночества, ставшее проблемой для многих культур.
В связи с этим можно выделить два основополагающих аспекта: гносеологический («Познай самого себя») – акт самопознания – и онтологический («Жить или существовать, иметь или быть»). Связь гносеологии и онтологии очевидна, так как она дополняет и углубляет понимание человеческого существования. Прежде чем мы коснемся данной проблематики, необходимо сказать, что стержнем этого исследования является понятие «Я». Ведь первый вопрос, который человек задал себе, это «Кто есть “Я”?» На протяжении всей истории человечества он был и остается вопросом всех вопросов, предполагающий многозначность ответов, поиск истин и ненайденных решений.
Несмотря на разнообразие взглядов на проблему сущности «Я», «Я» является индивидуальным, неповторимым, никем не обозримым. «Я» определяет себя через «Я». В метафизичности этого понятия заключается весь стержень, вся суть индивидуальности человека. Изначальность «Я» выражена в творчестве Н. Бердяева: «“Я” – это данность, то, что дано изначально, то, что предопределено природой, Богом, Космосом. “Я” есть внутренний стержень, ядро, особый мир существования, который предшествует моей внедренности в мир. Таким образом, “Я” внутренне, только мне принадлежащее, не как отношение части к целому, а как “Я” есть “Я”. Нет части “Я”, выражающейся через само “Я”» [1, с. 81]. Человек рождается уже со своим «Я», тем самым определяя акт сосуществования.
Рождение человека есть рождение «Я». И с этого момента не только «Я» есть неотделимая часть человека, но и «одиночество» есть неотделимая часть «Я». «Я» заложено еще в утробе матери, уже сам зародыш являет собой нечто самостоятельное, но внутриутробное единство с матерью, связывающее их нитями тайны бытия, присущее только им обоим, не дает ощутить ребенку его отдельность, его самость. Связь «Я» – «одиночество» уже присутствует в нем, но изначально не осознаваема. Однако «Я» – «одиночество» – природное начало в человеке, вместе с ним рождается и находится в развитии, проходя все стадии совершенствования человека. Сопровождая человека всю жизнь, «Я» появляется и исчезает, что указывает на индивидуальность рождения и индивидуальность смерти. Как в рождении, так и перед лицом смерти человек оказывается один на один с самим собой, именно здесь его одиночество проявляется в наибольшей степени. Поскольку никто не может умереть за меня, то в этой ситуации, когда я оставляю мир, я наконец обретаю самого себя. Это сближение только со своим «Я» вне существования всех социальных связей, всех чувственных восприятий, «оголяет» его перед самим собой. Происходит соитие «Я» и человека, где невозможно отделить одно от другого. Человек целостен. И никто не в силах помочь ему, даже самый близкий, любящий и понимающий. Могу ли я при этом переживать «одиночество»? Только в бытии, слияние с бытием – рождение или уход из бытия – смерть есть невидимое, трансцендентное отношение Я – БЫТИЕ. Я только один, сам могу установить ту нить, которая меня либо связывает, либо разъединяет. Мое одиночество только мое, вне контакта с окружающим меня миром. Это мой «разговор» с бытием.
Таким образом, рождение и смерть – феномены единичного ощущения человека, которые определяют заданность существования «Я». Так как рождение и смерть есть только мои состояния, переживаемые мною, в них полностью выражается вся природа одиночества человека.
Слияние «Я» и «одиночества» предполагает самопознание.
Стремление познать самого себя раскрывается и в психологических процессах, и в пространственно-временных рамках. Все, что находится во мне, и все, что окружает меня, есть, по сути, субъект моей познавательной деятельности. Я познаю себя в ощущениях, в пространстве и времени. Я рефлексирую для того, чтобы познать. Именно мое «Я», моя переработка информации извне, выдает в итоге все что «Я» есть. Значит, мое пребывание в моем мире, в моем одиночестве – факт моей жизни. Одиночество – это специфическое чувство полной погруженности в самого себя. Чувство одиночества не похоже на локальные ощущения, переживания, оно целостно, абсолютно всеохватно. Одиночество есть знак моей «самости»; оно сообщает мне, кто я такой в этой жизни. Выделение феноменального и когнитивного элементов приводит к пониманию того, что одиночество – особая форма са-мовосприятия, острая форма самосознания. Поэтому одиночество воспринимается как остросубъективное, сугубо индивидуальное и уникальное переживание, что выражается в ощущениях, пространстве и времени, мировоззрении.
Мои ощущения только мои. Мое восприятие предметов, запахов, вкусовых ощущений принадлежат только мне. Я живу своими ощущениями. Я испытываю свою боль, мои краски будут только моими. Мы только можем вместе сказать: «Вкусно», но вкус у каждого будет свой. Относительно другого человеческого существа я могу устанавливать различные «моменты», его подобия моим – некоторые из них даны мне непосредственно, например речь Другого, ее осмысленность, движения его тела, походка, внешний вид и т. д.; Другие устанавливаются как бы «по следам» (например, моя речь для меня есть выражение моей мыслительной активности, и то же самое я могу заключить в отношении речи Другого) или «по аналогии» [6, с. 102].
Мое пространство и время означает мое «здесь и сейчас». «Я – здесь» в пространственном смысле означает указание на определенное место в окружающем мире. Здесь же, со мной, мое тело, здесь же могут находиться другие предметы окружающего мира, тогда как остальные предметы – там. «Там» – это место, отличное от того, которое я занимаю; там располагается все остальное, что только я могу актуально «иметь в виду» и что не находится «здесь, со мной». И я сам могу менять местоположение, придавая значение пространственного «здесь» другому месту, бывшему «там». При этом мое прежнее местоположение, будучи зафиксировано как таковое, становится относительно меня «там», но одновременно, в рефлексии, может быть понято как мое бывшее «здесь». Таким образом, варьируя всякое доступное моему актуальному восприятию или воображению место окружающего мира, я могу установить его потенцию быть моим «здесь». Различие местоположения в метапространственном смысле – это различие между моим «внутренним миром», и внешним – окружающим миром как таковым. «Я раз и навсегда господин настоящего, и оно во веки веков будет сопутствовать мне, как моя тень; поэтому я не спрашиваю, и меня не удивляет, откуда это оно пришло и как это случилось, что оно есть именно теперь» [4].
Человек, находящийся в настоящем, всегда есть «здесь» и «сейчас». Для него прошлое – всего лишь свойство памяти, туда нельзя вернуться в пространственном смысле. Мы можем только «обернуться» назад, даже если мы будем четко воспроизводить все события, чувства, ощущения, вплоть до осязания, но вопреки всему прошлое никогда не станет настоящим – оно может быть только настоящим воспоминанием. Будущее есть представление, мечта, фантазия, в будущем также быть нельзя. Будущее есть фантом или цель, которая может быть реализована. Человек не может оказаться в будущем, и когда он достигает цели, своей мечты, его будущее становится настоящим.
Человек постоянно находится в одних пространственно-временных рамках – «здесь есть «Я».
Из всего вышесказанного следует, что каждый человек, познавая окружающий мир, имеет свое представление о нем, рисуя свою картину мира – свое мировоззрение. Один и тот же предмет люди видят и оценивают неодинаково: образ предмета в нашем восприятии зависит от особенностей «горизонта» каждого из нас. Значение предмета (вещи, символа) определяется его соотношениями со всеми другими «предметами», соприсутствующими в нашем «горизонте». Поскольку «горизонт» у каждого свой и обменяться им нельзя, невозможно и совершенно одинаковое понимание одной и той же вещи. Но понимания разных людей могут приближаться друг к другу по мере сближения их «горизонтов». Никто не может видеть мир вместо меня, даже если кто-то встанет на то место, где был я, теперь уже будет смотреть он и будет видеть по-своему. Наши «здесь» взаимоисключающи, непроницаемы друг для друга, различны, и перспектива, в которой предстает для нас мир, разная. Поэтому наши миры никогда не могут совпасть полностью. Человек, живой человек – это не плоский образ, не фотография, не портрет, его нельзя описать, как вещь. Можно многое рассказать обо мне: о моем характере, о моей жизненной позиции. Но в каждом случае мое целостное «Я», моя индивидуальность во всех ее проявлениях, моя самость так же единичны, как и мои отпечатки пальцев. Никого нельзя охватить полностью, даже прибли- зиться к этой полноте, ибо нет двух людей, которые были бы совершенно идентичны. Только в процессе живой двусторонней связи я и другой человек преодолеваем пропасть разобщенности, лишь пока мы оба в паре исполняем танец жизни. И все же полной идентификации мы не достигаем [2, с. 137]. «Я с самого начала нахожусь в своем; он в своем. В этом еще одна причина изначального одиночества» [2, с. 262]. Все это означает, что я не в состоянии отдать кому-то мое «Я» и не в состоянии присвоить себе ни малейшей крупицы чужого «Я». Я могу только описать мои мысли, чувства, желания, ассоциации, но не передать. Несовпадение «горизонтов» – это еще одно выражение «одиночества – неслиянности» индивидов.
Из всего вышеизложенного ясно, что одиночество человека изначально предполагает независимость от его воли и желания; я не могу отрицать, что «Я» существую так же, как я не могу отрицать одиночество. «Человеческая жизнь... именно в силу своей неотчуждаемости по сути есть одиночество, изначальное одиночество» [2].
Таким образом, осознание слияния «Я» и «одиночества», их взаимоопределенность и целостность ведет к иному раскрытию содержания этого понятия, которое несет в себе другое миропонимание.
Человек, не осознавая изначальность природы одиночества как часть своей природы, остается незнакомцем для самого себя. Вместо того чтобы увидеть одиночество как «красоту и блаженство, молчание и мир, непринужденность с существованием», он ошибочно принимает его как чувство одинокости. «В одиночестве, – пишет Р. Ошо, – есть красота и великолепие, позитивность; в чувстве, что тебе одиноко – бедность, негативность и мрачность» [3, с. 215]. Когда человек чувствует, что ему одиноко, то он думает, что ему кого-то не хватает – иными словами, что он изначально неполный, нецелый. Когда человек говорит, что он одинок, то он тем самым сознательно подписывает себе приговор. Он вешает ярлык негатива, надевая маску недовольства, обвиняя окружающих в его одиночестве, тем самым сознательно отстраняясь от мира людей, уходя в мир вещей. Выбирая свою нишу, прячась от дневного света, он словно паук сидит в своей паутине, перебирая нити прошлого, живя только воспоминаниями и мечтами, но не имея настоящего. Все его стремления направлены вниз, во тьму, он уже не хочет поднять голову и посмотреть вверх, повернуться лицом к свету, почувствовать тепло, ощутить благодать, окутывающую все его существо. Напротив, его неотвратимо влечет то, что внизу, и он сознательно делает шаг навстречу тьме, в манящую пропасть неизведанного одиночества, с непогасшей надеждой, что кто-нибудь окликнет, остановит его, не понимая одной простой истины, что окликнуть его сможет только он САМ.
Смысл же того, чтобы быть одному, иной – это не значит, что человеку кого-то не хватает, это означает, что он нашел себя. Быть «Я» – это не только быть для себя, но и быть с собой.
Мы остановимся на одной из самых ярких черт одиночества – это специфическое чувство полной погруженности в самого себя. Чувство одиночества не похоже на локальные ощущения, переживания, оно целостно, абсолютно всеохватно. В чувстве одиночества есть познавательный момент, именно здесь мы пытаемся «познать самого себя». Одиночество есть знак моей «самости»; оно сообщает мне, кто я такой в этой жизни. Выделение феноменального и когнитивного элементов приводит к пониманию того, что одиночество – особая форма само-восприятия, острая форма самосознания.
«Я» в одиночестве или одиночество в «Я» есть парадокс человеческой мысли, который позволяет нам глубже взглянуть на проблему человеческого существования. «Найти себя в одиночестве», «понять себя в одиночестве», «выносить себя в одиночестве», «нести свое одиночество» есть главные составляющие, которые прежде всего значимы для человека, являясь его духовной, экзистенциальной основой. Найти свое «Я» – удел не каждого человека в жизни, и не каждый стремится к самопознанию, но нужно уметь принять и воспринять свое одиночество, понимая, что оно есть жизненная необходимость, определенная ступень в становлении человеческого «Я». А. Шопенгауэр писал, что «в одиночестве каждый видит в себе то, что он есть на самом деле».
В одиночестве каждого из нас может находиться нечто, о чем мы еще не знаем и что следует раскрыть только нам самим без посторонней помощи.
Например, мудрец во многих культурах – особо почитаемый человек, часто старейшина, наделенный мудростью, которому приписывается божественное происхождение. Стереотипный образ мудреца – это немногословный человек, знающий жизнь, пытающийся проникнуть вглубь бытия. Мудрец обычно живет вдали от мирской суеты, его не пугает одиночество, к нему приходят люди за советом, но нигде нет описания, что он пребывает в жизненной суете. Ведь мудрейший человек познает смысл бытия через себя, через свою прожитую жизнь и не считает себя одиноким, заброшенным старцем. Конечно, это один из примеров, и таких примеров множество. Отшельники, старцы искали уединения, удаляясь от мирской суеты, чтобы понять истину – истину бытия и несли ее людям. Именно духовная связь с миром открывает другую сторону проблемы одиночества – позиции самоопределения и самопознания. Жизнь преподносит нам ситуации, которые заставляют задуматься, понять и принять их, чтобы пересмотреть свое представление о мире, узнать свое «Я», глубже понять самого себя и других. Это и есть та возможность, которую нужно использовать для осмысления своего «Я».
Одиночество есть самое противоречивое чувство человека. Одиночество полярно. В большинстве случаев одиночество воспринимается как трагедия, драма жизни, человек боится встречи с самим собой, ищет выход за пределами своего «Я». Вынести одиночество дано далеко не каждому человеку. Многие воспринимают одиночество только как трагедию, драму жизни, не пытаясь посмотреть на ситуацию несколько иначе. Частое выражение, которое мы можем слышать, – «бегство от одиночества». Человек, убегая, бежит прежде всего от себя, ища восполнения в ком-то другом или в чем-то. Бегство от одиночества есть бегство в одиночество – то самое одиночество в толпе, на работе, в семье. Бегство от одиночества – это приближение к космическому одиночеству старости.
Человек бежит от одиночества, забывая, что в одиночестве он может понять свое существование как нечто нужное близким и заслуживающее небезразличия и общения.
Только пройдя врата одиночества, человек становится личностью, которая может заинтересовать мир.
Человек в своем развитии приобретает навыки, которые присущи ему для удовлетворения биологических потребностей, чтобы выжить. Но духовное развитие человека измеряется не выживанием, а проживанием. Понять свою сущность человек может только заложенной в нем духовностью, рассматривая внешние стороны жизни через свое внутреннее понимание. Все академические издания определяют человека как биосоциальное существо, но прежде всего человек есть человек творческий, духовный, самопо-знающий, саморазвивающий, человек, выбирающий между жизнью и существованием.
Онтологическая сторона феномена «одиночества» представляет собой философскую дилемму «Жить или существовать». Прежде всего «жизнь» и «существование» – понятия, отличные друг от друга. Н. А. Бердяев четко разграничил их: «жизнь» – категория биологическая, «существование» – онтологическая. «Существование человека есть его пребывание в себе, в своем подлинном мире, а не в выброшенности в мир биологический и социальный» [1, с. 61–62]. Бытие для Бердяева – единственный критерий и мерило ценности истины, добра, красоты. Тождественность и диалектичность этих понятий определена. Бытие и есть истина, добро, красота, и смысл этих понятий заключается в бытие. Обратная сторона этих понятий: зло, ложь, уродство – есть небытие – отрицание бытия. Н. А. Бердяев подчеркивает, что именно жизнь есть критерий истины, добра, красоты, но бытие, в отличие от жизни, не может быть критерием качества и ценности. Бытие есть идейный мир, подавляющий мир индивидуального, единичного, неповторимого. Бытие и бывание должны иметь живого носителя, субъекта, конкретное существо [1, с. 454]. Концепция Э. Фромма выражается в следующем: бытие есть такой способ существования, когда человек счастлив тем, что продуктивно использует свои способности и находится в единстве со всем миром. В своем труде «“Иметь” или “Быть”» Фромм раскрывает сущность человека как альтернативу в различии обладания и бытия. «Если я есть то, что я имею, что становится со мной, когда я это теряю?» Человек, заслуживающий сострадания, эгоцентрик. В потребительском существовании человек никогда не сможет стать сам собой. «Если я есть то, что я есть (а не имею), то никто не может меня ограбить и лишить меня моего чувства надежности и уверенности. Мой внутренний стержень – это часть меня, моей личности, моего я» [5, c. 173].
Таким образом, у Фромма два бытия: обладательное (которым владеет человек) снашивается, экзистенциальное (практика) не стареет и не исчезает. Страх перед жизнью для экзистенциального сознания – исключение. Человеку не страшно жить, так как его уверенность и вся жизнь зависят от него самого (самостоятельности, оптимизма, работоспособности, творчества). Потребительскому сознанию органически присущи страхи перед «утратой собственности» [5]. Человек выбирает между бытием-обладанием и экзистенциальным бытием, утверждает Фромм, и это только им сделанный выбор. В экзистенциальном бытии человек прежде всего обладает самим собой, что нельзя потерять в отличие от бытия-обладания. Бытие-обладание, к сожалению, «бич нашего времени» и его определяющая, когда наука, шагнув вперед, заявляет о создании искусственного человека, человека без «Я». Кому нужен человек экзистенциальный? Разве что самому себе и только таким, как он. Большинство людей живут «обладанием», при этом испытывая постоянный страх, страх потери. Постоянный страх и неуверенность в жизни приводят людей к всеобщему психозу, характерному для данной эпохи: вдруг будет потеряно все то, что мною приобретено, как это сохранить? Что останется и что со мной будет? Кто буду я после потери моего благосостояния? Многочисленность вопросов, сопряженных со страхом потери, становится мучительной. Экзистенциальное бытие тяжело приобретается, ведь стать человеком не каждому под силу, но ценность его в том, что оно никогда не может быть потеряно. Все остается со мной. «Я» есть мое обладание.
Ибо одиночество – это ось, пронизывающая нашу жизнь. Вокруг нее вращаются детство, молодость, зрелость и старость.
По сути, человеческая жизнь есть бесконечное разрушение одиночества и углубление в него.
Но, несмотря на это, одиночество есть тайна, к которой неудержимо тянет, пока в нее не попадешь и не ощутишь всем своим существом. Твое одиночество – единственный способ пережить свою растворенность и, стало быть, бесследную затерянность в мире.
Соединение воедино «Я» и «одиночества», рассмотрение их неотрывно друг от друга позволяют нам глубже понять суть человеческого существования.
Таким образом, «Я» и одиночество идут параллельно друг с другом, нога в ногу. Нет меня – нет и одиночества. Одиночество есть акт моего существования. Одиночество дано только человеку, являясь частью его природы.
Нельзя бояться одиночества. Нужно просто научиться понимать его. Как человек воспринимает мир и себя в этом мире, так и чувство одиночества отражает его внутренний мир. Какую окраску мы придаем, какой смысл вкладываем, с каких позиций мы смотрим на ту действительность, которая дана нам «здесь и сейчас» в предполагаемых обстоятельствах. В совокупности все это накладывает отпечаток на наше мировоззрение, и в соответствии с этим мы переживаем одиночество. Чувство одиночество становится либо острее, глубже, вызывая тем самым боль, раненость и отчужденность, либо выполняет рефлексивную функцию, позволяя человеку быть наедине с собой, пытаясь познать самого себя.
Из всего вышесказанного следует, что одиночество и гносеологично, и онтологично. Одиночество заключает в себе всю философию, всю противоречивость жизни человека, его нескончаемый поиск. Познания себя (гносеология) через свое существование (онтология).
Список литературы Гносеологический и онтологический аспекты «одиночества»
- Бердяев Н. А. Дух и реальность/Н. А. Бердяев. -М.: ООО «Издательство АСТ»; Харьков: «Фолио», 2003. -311 с.
- Ортега-и-Гассет X. «Дегуманизация искусства»/Х. Ортега-и-Гассет. -М.: Радуга, 1991. -С. 262.
- Ошо Р. Любовь. Свобода. Одиночество/Р. Ошо. -АСТ. Астрель, 2008. -287с.
- Шопенгауэр А. Мировоззренческая философия: Мир как воля и представление//Собр. соч.: В 5-ти т. Т.1. -М.: «Московский клуб», 1992. -С. 272-273.
- Фромм Э. «Иметь» или «Быть»/Э. Фромм. -М.: АСТ, 2008. -С. 137.
- Черняк А. З. Проблема удостоверения и опыт интерсубъективности/А. З. Черняк//История философии. -1997. -№ 1. -C.100-111.