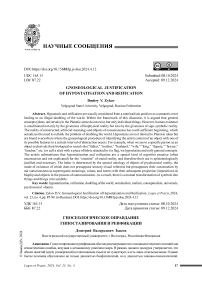Гносеологическое оправдание гипостазирования и реификации
Автор: Зыков Д.В.
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Научные сообщения
Статья в выпуске: 4 т.23, 2024 года.
Бесплатный доступ
Гипостазирование и реификация обычно рассматриваются с номиналистических позиций как семантическая ошибка, ведущая к незаконному удвоению мира. В рамках данного дискурса утверждается, что общих понятий (идей, универсалий) в платоновском смысле не существует, а есть лишь отдельные вещи. Однако бытие человека обусловлено не только данностью биофизической, но и данностью знаково-символической. Реальность сконструированных, искусственных смыслов и объектов сознания обладает самодовлеющим началом, что актуализирует необходимость переосмысления проблемы удвоения мира. Гипостазии не сводятся только к платоновским идеям, но встречаются повсюду, где происходит гносеологическая процедура отождествления всего содержания предмета с одним из его возможных признаков в определенном интервале абстракции. К примеру, когда мы видим в конкретном человеке как предмете исключительно его биологическую или социальную роль («отец», «мать», «муж», «жена», «король», «депутат», «юрист», «педагог», и т. д.) или называем палку с прикрепленным к ней куском ткани флагом, - мы гипостазируем и реифицируем общие понятия. В статье обосновывается, что гипостазирование и реификация являются особого рода когнитивными практиками (зачастую не осознаваемыми и не эксплицируемыми) по «созданию» социальной реальности, а потому их использование гносеологически оправданно и необходимо. Последнее обусловлено особой онтологией объектов психосоциальной реальности, модус существования которых не предполагает чувственно-наглядных референтов, но связан с их конструированием нашим сознанием в качестве сверхчувственных значений, ценностей и норм с последующей их проекцией (наложением) на биофизические объекты в процессе коммуникации. В результате происходит взаимопревращение символов в вещи и вещей в символы.
Гипостазирование, реификация, удвоение мира, номинализм, реализм, концептуализм, универсалии, психосоциальные объекты
Короткий адрес: https://sciup.org/149147484
IDR: 149147484 | УДК: 165.15 | DOI: 10.15688/lp.jvolsu.2024.4.12
Текст научной статьи Гносеологическое оправдание гипостазирования и реификации
DOI:
Цитирование. Зыков Д. В. Гносеологическое оправдание гипостазирования и реификации // Logos et Praxis. – 2024. – Т. 23, № 4. – С. 87–94. – DOI:
Весь состав мира можно разделить на две категории явлений: физические и идеальные (экономические, правовые, религиозные, лингвистические и т. п.). Различие между ними в том, что носителями последних являются сознательные существа [Мамардашвили 2012, 158]. В связи с этим человек живет в удвоенном мире. Ему дан в чувственных наглядных представлениях физический мир, визуализированный как факт сознания, как онтологически первичная по отношению к сознанию объективная материальная реальность, с которой нельзя не считаться. Но человеком его делает другой мир – знаково-символический. Это – объективная и субъективная идеальные реальности бесконечного множества смыслов, с которыми также нельзя не считаться. И хотя ценности, нормы и смыслы не наблюдаемы, за ними не стоят физические референты, они выступают в неменьшей мере данностями, чем материальные факторы, но данностями другого рода и модуса существования, представляя собой в конечном итоге исключительно конструкции «сферы сознания» [Мамардашвили, Пятигорский 2011, 39–54].
Чтобы глубже понять сущность психосоциальной реальности важно рассмотреть саму проблему удвоения мира с точки зрения модуса существования общих понятий. Проблема модуса существования общих понятий или абстрактных сущностей традиционно рас- сматривается в контексте спора номиналистов и реалистов об универсалиях. Проблема универсалий зародилась не в средние века, она связана с самим фактом существования мышления и в этом смысле является неустранимой. Всякий раз, когда мы задаемся проблемой мышления, мы сталкиваемся с проблемой номинализма – реализма и вынуждены ее решать [Сорокин 2000, 371–374]. До сих пор есть немалая путаница в понимании самого удвоения мира, его последствий и связанной с ним проблемы гипостазирования. Как мы можем не удваивать сущности, если мы живем в двух мирах: мире биофизических объектов и мире психосоциальных смыслов, норм и значений?
Как правило, гипостазирование определяется как «логическая (семантическая) ошибка, заключающаяся в опредмечивании абстрактных сущностей, в приписывании им реального, предметного существования» [Воленьский 2004]. «Эту ошибку допускает, например, тот, кто считает, что наряду со здоровыми и больными людьми в реальном мире есть еще такие отдельные “существа”, как “здоровье” и “болезнь”». Авторы определения видят в гипостазировании опасность, хотя признают, что данный метод существует не только в обыденном рассуждении, художественной литературе и философии, но и в научных теориях, этике, юриспруденции [Ивин, Никифоров 1997, 57].
Действительно нельзя сомневаться, что существуют белые вещи, сладкая пища, квадратные столы, твердые предметы, правила поведения. И сложно поверить, что существуют в качестве самостоятельного предмета «белизна», «сладкость», «квадратность», «твердость», «правильность». Это означало бы, что вещи, называемые белыми, сладкими, квадратными, твердыми, правильными дополняются вещами, именуемыми «белизной», «сладкостью», «квадратностью», «твердостью», «правильностью». По распространенному мнению, в такой методике и заключается смысловая ошибка – незаконное удвоение мира.
Утверждение о семантической ошибке при гипостазировании указывает на номиналистскую позицию в этом вопросе. Так, один из ведущих представителей логического позитивизма Р. Карнап писал: «Как я понимаю, гипостазирование, или субстанциализация, или овеществление состоит в ошибочном признании вещами объектов, которые не являются вещами. Примерами гипостазирования свойств (или идей, универсалий, или т. п.) в этом смысле являются такие формулировки, как “идеи имеют самостоятельное существование”, “они обитают в надзвездном мире”, “они уже существовали в божественном разуме до того, как воплотились в вещах” и т. п., если только эти формулировки мыслятся буквально, а не только как поэтические метафоры. Мы здесь оставляем в стороне вопрос, следует ли эти гипостазирования приписывать самому Платону или, скорее, его истолкователям. Эти формулировки, если их понимать буквально, являются псевдопредложениями, лишенными познавательного содержания, и поэтому не являются ни истинными, ни ложными»» [Карнап 1959, 56]. Но позитивизм как объективистская методология в вопросах понимания смыслов и их феноменологии не состоятелен. Если удвоение мира понимать с позиций номинализма (позитивизма) как некую смысловую ошибку, то непонятен онтологический статус и местоположение идей, смыслов, значений, культуры в целом, равно как «тайной за семью печатями» остается сама по себе возможность понимания между людьми, интерсубъективности и интеробъективности.
В упомянутых определениях под гипос-тазированием имеется ввиду только платонизм. У Платона «…не идеи обозначают предметы в сознании, а предметы есть знаки идей – предметы фактические, материальные или какие-нибудь другие, в том числе и человеческая психика, суть выполнения идей, понимаемые как их обозначения» [Мамардашвили, Пятигорский 2011, 93]. «Истинно реальный мир, по Платону, это мир идей; все, что мы можем попытаться сказать о вещах в чувственном мире, заключается в том, что эти вещи разделяют природу таких-то и таких-то идей, которые и составляют их характер» [Рассел 2009, 82]. Иными словами, мы не можем помыслить лошадь каурой, гнедой, иноходцем, рысаком и т. д., не имея заранее данного общего понятия «лошадь». При этом не надо думать, что идеи (универсалии, общие понятия) существуют в умах, хотя они и постигаются умом. Сущность универсалий заключается в их умопостигаемом характере, в их противоположности конкретным вещам, данным в ощущениях, это все то, что обще многим конкретностям, но их бытие – это сама вечность, постоянная и нетленная. «Белизна», «сладкость», «справедливость», «лошадь», «болезнь» как универсалии существуют в объективном идеальном мире.
Как известно, амбициозная программа позитивизма по очищению наших знаний от метафизики потерпела неудачу, превратившись в очередную форму дискурса, теорию, имеющую гораздо более скромные границы применимости, чем казалось. Как представляется, такой исход был обусловлен изначальной противоречивостью, двусмысленностью утверждений самой позитивной философии. В частности, с одной стороны, утверждалась субъективность наших восприятий, их приватность: все, что мы познаем в предметах, вкладывается в них нами самими, а пространство и время – свойства нашего чувственного восприятия (хотя это было верно только по отношению к непосредственному опыту восприятия). В этом смысле позитивную философию нельзя разделить с субъективным идеализмом. Но, с другой стороны, в отношении «научных фактов», устанавливаемых посредством наблюдений, измерений, экспериментов, вычислений, точных приборов, позитивная философия утверждала, что в этом случае происходит знакомство с самой сущностью вещей, с объективным миром, где пространство и время оказываются свойствами реального материального мира. В своих притязаниях на научность позитивисты неосознанно (в отличие от материалистов) отождествляли материальный мир с объективной реальностью.
В современных трактовках мир идей Платона именуется объективным миром возможностей, существование которого доказано логически [Рассел 2009, 82–93]. Объективный идеальный мир возможностей предполагается существующим наряду с объективной материальной реальностью. Идеальное понимается как возможное материальное, а материальное как реализованное возможное (один из многих вариантов проявления объективной материальной реальности), предполагая изучение того, что может быть, что возможно и чего не может быть, что невозможно в принципе [Лебедев 2022, 2–3]. К примеру, апельсин, лежащий на столе, имеет несколько сценариев окончания своего существования, и какая из идеальных возможностей реализуется, таким и будет «судьба» апельсина в материальном мире (упал за стол и сгнил, был употреблен, был не до конца съеден и выкинут, засох на столе и т. д., но не взлетел на крыльях и не превратился в розового слона). Понятное дело, с символами, значениями, нормами все гораздо сложнее.
Гипостазирование основано на игнорировании качественной разницы между предметами, индивидами, способными к самостоятельному существованию в физическом мире, и их признаками, способными существовать лишь в составе предметов. Различается два вида гипостазирования. «Первое характерно для платонизма и сводится к утверждению, что абстрактные сущности (универсалии) существуют самостоятельно – в реальном или “надмировом” пространстве… Другой вид гипостазирования отождествляет предмет с одним из его признаков, при этом трактует его как признак только в границах интервала ги-постазирования, задаваемого целями исследования» [Левин 2010, 528]. Гипостазирова-ние – вполне оправданная познавательная процедура, если действовать в определенном ин- тервале абстракции. «Вывод о том, что в границах интервала гипостазирование – вполне правомерная познавательная процедура, получен гносеологическим анализом. Но поиск конкретного интервала, в котором все содержание предмета можно свести к интересующему исследователя признаку, – это уже задача конкретной науки. Более того, именно в способности находить такие интервалы проявляется профессионализм исследователя» [Левин 2005, 49].
Полисемантическая социально-психологическая реальность находится и происходит во внутренних процессах сознания людей. Значения и смыслы объективируются, «материализуются» в форме «проекций» на биофизические объекты, выступающие сенсорными проводниками указанных нематериальных смыслов и значений. Когда происходит такое наложение или приписывание значений и смыслов биофизическим объектам, сама сущность последних изменяется. Люди могут руководствоваться разными стратегиями поведения в зависимости от того, какие ценности, проекции, фантазмы они принимают за ключевые в том или ином контексте. Изменяется под влиянием психосоциальных проекций и сущность вещей. И «…такой незначительный объект, как палка с прикрепленным куском дешевой ткани, становится национальным флагом, за который многие приносятся в жертву и оказываются убиты» [Сорокин 2010, 931].
В этом примере как раз и демонстрируется второй вид гипостазирования, через наделение палки с прикрепленной тканью определенным «вещественным» значением (одним из возможных признаков). Данные признаки предметов, существующие не в реальном пространстве и времени, а в смысловом, становятся самостоятельным объектом существования в реальном пространстве и времени – флагом. В другом смысловом пространстве те же предметы в виде палки и куска ткани могут быть отождествлены с другими возможными приписываемыми им признаками и превратиться во вражеский флаг или даже в швабру, которая также состоит из палки и ткани, но сущностно представляет собой другую вещь. При таком виде гипостазирования также игнорируется качественная разница между предметом, существующим в физическом мире, и его возможными признаками, которые могут существовать только в составе предмета, а на самом деле превращаются через наделение их бытийностью в самостоятельные предметы.
Л.А. Микешина обращает внимание на то, что необходимо заново изучить такие неоднозначные методы как гипостазирование и реификация, которые отличаются от обычного логического обобщения данных. Автор подмечает, что большинство текстов социальногуманитарной направленности, оперирующие общими понятиями, имплицитно содержит как условие своей возможности методы гипоста-зирования и реификации, «…однако чаще всего они не осознаются как особого рода когнитивные практики и не эксплицируются эпистемологами и методологами» [Микешина 2010, 46].
В определениях, данных Р. Карнапом, А.А. Ивиным, А.Л. Никифоровым и им подобных, не проводится различия взаимосвязанных понятий гипостазирования и реифика-ции. Более продуктивным кажется следующий подход: «В чем отличие реификации от гипос-тазирования, почему существуют два термина, как они соотносятся? Далее я буду исходить из того, что гипостазирование – это утверждение о реальном существовании того, что зафиксировано в понятии, реификация – это утверждение о его предметной (вещественной) форме» [Микешина 2010, 47]. Автор подчеркивает, что в определении гипос-тазирования как семантической ошибки, заключающейся в опредмечивании абстрактных сущностей, приписывании им реального существования, фиксируется только отрицательное значение данного понятия. Понятие ошибки содержит отрицательную коннотацию и требование ее исправления. А между тем «гипостазированные сущности в сфере культуры и социума могут быть оправданы, если, реифи-цируясь через институции, коммуникации и деятельность людей, они обретают объективное существование по принятым в обществе правилам» [Микешина 2010, 54]. История термина «овеществление», или «реификация», начинается с теории отчуждения К. Маркса и ее частного случая – теории товарного фетишизма. Среди тех, кто внес вклад в развитие этой концепции, следует назвать, прежде всего, Г. Лукача и А. Хоннета, осмысливших в современных условиях процессы овеществления человека и очеловечивания вещей как особые гносеологические процедуры [Todd 2014].
Сверхчувственные значения, ценности, нормы в своих объективированных формах существования приписываются биофизическим объектам или как бы накладываются, дополняются новыми смыслами, в результате чего они становятся совершенно отличными как посредники таких психосоциальных проекций от того, чем они были до такого преобразования. «Это означает, что все царство психосоциальной реальности, его наука и технологии, его религия и философия, его право и нравственность, его экономика и политика, его “образы жизни” и его люди-деятели, “друг”, “враг”, “грешник”, “святой”, “генерал”, “монарх”, “священник”, “плотник”, “учитель”, “ученик”, “герой”, “муж”, “жена” и любые другие психосоциальные особенности накладываются или проецируются как фантазмы на биофизические явления» [Сорокин 2010, 932].
Объективно существуют только человеческие тела разных пола, возраста, расы и их полиморфические соматические композиции. И с этой точки зрения не существует таких человеческих организмов, которые можно было отнести к классам и видам «цари», «священники», «преступники», «студенты», «генералы», «профессора», «господа», «рабы», «спортсмены», «тираны», «юристы», «директора», «крестьяне» и т. д. В физической и биологической природе нет таких категорий и классификаций, как «красивое» и «уродливое», «правильное» и «некорректное», «бестактное» и «деликатное», «святое» и «грешное», «великое» и «ужасное» и т. п. Эти номинации рождаются и «обитают» в сознании людей и имеют сверхчувственную природу норм, значений и смыслов, обусловленных социально-психологическим умопостигаемым модусом их существования. И затем они воплощаются (читай – реифицируются) устно, письменно, в различных артефактах искусства, многообразных действиях, добавляя к их психологической реальности транссубъективную. Все эти сверхчувственные значения приписываются нашим сознанием биофизическим организмам и представляют собой «атрибуцию», «про- екцию», «фантазм». «…Город, государство, больница и т. п. есть ничто, в действительности не существуют», если понимать под действительно существующим возможность его чувственно-наглядного или эмпирического наблюдения [Петражицкий 2010, 370].
Вышеописанное удвоение мира входит в противоречие со здравым смыслом только если его трактовать номиналистически, как это делали представители позитивизма. Но человек не живет в мире просто знаков в его уме, являющихся образами материального мира. Он также своим сознанием создает значения и накладывает их на биофизическую реальность, преобразуя ее. Удвоение мира человеком имеет форму концептуализма, то есть «являющего», «репрезентирующего» биофизический мир в общих понятиях, не являющихся ни отдельными объективными реальностями, ни простыми словесными обозначениями, но мысленными концептами, конструкциями, содержаниями, многообразие которых возможно благодаря существованию объективного идеального мира возможностей и относимыми, приложимыми к множеству предметов и явлений на основании имеющегося сходства между ними и выступающими в этом смысле особыми формами познания действительности. К примеру, в отношении такого общего понятия как право, в философско-правовой литературе так разъясняется этот момент: «Такой особой формой концептуалисты считали доопытные общие понятия – концепты ( conceptus ), то есть идеальные сущности, изначально находящиеся в уме человека. Таким образом, общее понятие предстает в рамках данного направления как условие возможности конструктивной деятельности человеческого разума – в отличие от реализма, в котором универсалии существуют объективно и только открываются разумом, и от номинализма, в котором общие понятия существуют исключительно вербально» [Тимошина 2013, 57].
Психосоциальные объекты невозможно определить в физических терминах, потому что здесь нет константного физического свойства, присущего объекту как представителю того или иного класса, как это делается в естественных науках. Эти понятия есть не просто абстракции, они суть искусственно скон- струированные понятия, абстрагированные от всех физических свойств вещей и введенные гипотетически или по определению [Лебедев 2010, 65], «экстернализованные» в смысловое поле общественного сознания в качестве реально, «вещественно» существующих. Механизм человеческого поведения объяснить не сложно, но важнее понимать контекст. В разных культурно-исторических и ситуативных контекстах, к примеру, причинение смерти другому человеку может быть убийством, самообороной, охотой, сафари, подвигом, казнью, геноцидом, эвтаназией, жертвоприношением, вендеттой, карой небесной и т. п. Сознание влияет на биофизическую действительность, вкладывая «свое» значение исходя из контекста и гипостазирует общие понятия. Гносеологически сознание предшествует материи, мир становится таким, каковы его наблюдатели, и какова теория, такова объективная реальность. Конструируемая сознанием картина мира целиком обусловлена его содержанием. Как говорится, нет ничего в сознании, чего не было раньше в ощущении. Да, но только само ощущение должно изначально быть осознано, чтобы стать ощущением (психическим процессом), значит оно (сознание) ему с какого-то момента предшествует. Познание без сознания и уже имеющихся в нем структуры, состояний, содержаний и средств невозможно. «“Очки сознания” всегда на носу у познающего субъекта, и он “видит” в объективной реальности только то, что они позволяют ему видеть. Какова объективная реальность на самом деле? Ответ на этот вопрос существенно зависит от используемой сознанием познавательной оптики. Здесь верен принцип: каково сознание, такова и объективная реальность. И по-другому не может быть в принципе. История смен научных картин мира – убедительное тому доказательство» [Лебедев 2022, 8–9].
Л.А. Микешина довольно сдержанно оценивает степень распространенности рассматриваемых методов. Между тем, следуя логике Л.И. Петражицкого и П.А. Сорокина, надо признать психосоциальную реальность насквозь гипостазированной и реифицированной, концептуализированной, теоретически нагруженной и перегруженной. При этом к психосоциальной реальности едва ли приложимы такие аттестации и характеристики как «семантическая ошибка», скорее уместные в отношении написанного для компьютера программного кода. Понятия «проекции», «атрибуции», «приписывания», «фантазмы», «концепты», «гипостазии», «реификации» гораздо эффективнее для понимания удвоенного мира человека.
Вслед за Л.А. Микешиной следует осознать, что гипостазирование и реификация как эпистемологические операции предшествуют социальной конструктивной деятельности. Однако думается, что данные операции также гносеологически предшествуют конструированию, проецированию, созданию социальной реальности. Оба способа гипостазирования и их возможная последующая реификация есть необходимые операции сознания в создании идеальных объектов и управлении ими. И даже когда мы имеем в виду социально-биологические роли в форме «мамы», «папы», «сына», «дочери», имеющих свои чувственные референты, то их «осязаемость» верна лишь отчасти, поскольку речь идет не об инстинктивных подтверждениях, но о понятиях (читай – проекциях). Животное отличает родственников от чужих по запаху (иному сенсорному референту); мы же отличаем посредством сознания, нам надо думать, обращаться к памяти. Мы знаем, что это наш родственник, несмотря на то, что это биологически может быть ложью. Поэтому даже «мама», «папа» и т. п. – суть гипостазированные и овеществленные понятия.
Общие понятия, сущности, лица, роли, вещи, предметы, явления, процессы в объективном материальном мире существуют как будто наблюдаемые объекты (в определенных границах применимости, особом смысловом ракурсе, «интервале абстракции»). Проблема социального познания заключается в том, что психосоциальные объекты существуют в качестве гипостазированных и реифи-цированных проекций нашего сознания. «…Мы не только полагаем, что есть такая вещь, как символ, но и полагаем, что символ есть вещь…» – утверждали выдающиеся философы [Мамардашвили, Пятигорский 2011, 250]. Представляется, что гипостазирование и реификация как раз и являются гносеологическими условиями превращения символов в вещи и вещей в символы.
Список литературы Гносеологическое оправдание гипостазирования и реификации
- Воленьский 2004 - Воленьский Я. Гипостазирование // Философия: Энциклопедический словарь. М.: Гардарики, 2004.
- Ивин, Никифоров 1997 - ИвинА.А., НикифоровА.Л. Гипостазирование // Словарь по логике. М.: Гуманит. издат. центр «ВЛАДОС», 1997.
- Карнап 1959 - Карнап Р. Значение и необходимость. Исследование по семантике и модальной логике. М.: Изд-во иностр. лит., 1959.
- Лебедев 2010 - Лебедев С.А. Уровни знания // Вопросы философии. 2010. № 1. С. 63-75.
- Лебедев 2022 - Лебедев С.А. Основной вопрос философии: кто прав, кто не прав и почему // Гуманитарный вестник. 2022. N° 4. С. 1-14. DOI: http://doi.org/10.18698/2306-8477-2022-4-789
- Левин 2010 - Левин Г.Д. Гипостазирование // Новая философская энциклопедия. В 4 т. Т. 1. М.: Мысль, 2010.
- Левин 2005 - Левин Г.Д. Проблема универсалий. Современный взгляд. М.: Канон+, 2005.
- Мамардашвили, Пятигорский 2011 - Мамардаш-вили М.К., Пятигорский А.М. Символ и сознание. СПб.: Азбука-Аттикус, 2011.
- Мамардашвили 2012 - Мамардашвили М.К. Очерк современной европейской философии. СПб.: Азбука-Аттикус, 2012.
- Микешина 2010 - Микешина Л.А. Эпистемологическое оправдание гипостазирования и реификации // Вопросы философии. 2010. № 12. С. 44-54.
- Петражицкий 2010 - Петражицкий Л.И. Очерки философии права // Петражицкий Л.И. Теория и политика права. Избранные труды. СПб.: Юрид. кн., 2010. С. 245-380.
- Рассел 2009 - Рассел Б. Проблемы философии // Рассел Б. Избранные труды. Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2009. С. 33-121.
- Сорокин 2000 - Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика. СПб.: Изд-во Рус. Христиан. гуманит. ин-та, 2000.
- Сорокин 2010 - Сорокин П.А. Рецензия на книгу Л.И. Петражицкого «Право и нравственность» // Петражицкий Л.И. Теория и политика права. Избранные труды. СПб.: Юрид. кн., 2010. С. 926-932.
- Тимошина 2013 - Тимошина Е.В. Право как «идея», как «фикция» и как «факт»: о номинализме и реализме в теории права // Труды государства и права Российской академии наук. 2013. № 4. С. 48-75.
- Todd web - Todd H. Reification in and Through Law: Elements of a Theory in Marx, Lukacs, and Honneth [European Journal of Political Theory. 2014. Vol. 13 (2). P. 178-198] // https:// www.researchgate.net/publication/271215779