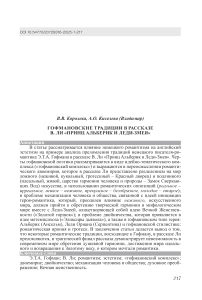Гофмановские традиции в рассказе В. Ли «Принц Альберик и леди Змея»
Автор: Королева В.В., Киселева А.О.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Зарубежные литературы
Статья в выпуске: 1 (72), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается влияние немецкого романтизма на английский эстетизм на примере анализа преломления традиций немецкого писателя романтика Э.Т.А. Гофмана в рассказе В. Ли «Принц Альберик и Леди Змея». Черты гофмановской поэтики рассматриваются в виде идейно тематического комплекса («гофмановский комплекс») и выражаются в переосмыслении романтического двоемирия, которое в рассказе Ли представлено разделением на мир ложного (неживой, кукольный, гротескный - Красный дворец) и подлинного (идеальный, живой, царство гармонии человека и природы - Замок Сверкающих Вод) искусства; в использовании романтических оппозиций (реальное - ирреальное, живое - неживое, прекрасное - безобразное, молодое - старое); в проблеме механизации человека и общества, связанной с идеей инициации героя романтика, который, преодолев влияние неживого, искусственного мира, должен прийти к обретению творческой гармонии в мифологическом мире вместе с Леди Змеей, олицетворяющей собой идею Вечной Женственности («Золотой горшок»); в проблеме двойничества, которая проявляется в идее метемпсихоза («Эликсиры дьявола»), а также в гофмановском типе героя: Альберик (Ансельм), Леди Ориана (Серпентина) и гофмановской стилистике: романтическая ирония и гротеск. В заключении статьи делается вывод о том, что некоторые романтические традиции, восходящие к Гофману, в рассказе Ли преломляются, и трагический финал рассказа демонстрирует невозможность в современном мире обретения душевной гармонии, достижения мира идеального и возвращения к Золотому веку, о котором мечтали романтики.
Э.т.а. гофман, в. ли, романтизм, эстетизм, «гофмановский комплекс», двоемирие, двойничество, механизация человека и общества, духовное преображение, вечная женственность
Короткий адрес: https://sciup.org/149147778
IDR: 149147778 | DOI: 10.54770/20729316-2025-1-217
Текст научной статьи Гофмановские традиции в рассказе В. Ли «Принц Альберик и леди Змея»
The article examines the influence of German Romanticism on English Aestheticism by analyzing the refraction of the traditions of the German romantic writer E.T.A. Hoffmann in the short story by V. Lee “Prince Alberic and the Snake Lady”. The features of Hoffmann’s poetics are considered in the form of an ideological and thematic complex (Hoffmann complex) and are expressed in a reinterpretation of the romantic duality, which in Lee’s story is represented by a division into the world of the false (inanimate, puppet, grotesque – The Red Palace) and the authentic (ideal, alive, where harmony of man and nature reigns – The Castle of Sparkling Waters) art; in the use of romantic oppositions ( real – unreal , alive – inanimate , beautiful – ugly , young – old ); in the problem of mechanization of man and society associated with the idea of initiation of the romantic hero, who, having overcome the influence of the inanimate, artificial world, must come to find creative harmony in the mythological world together with the Snake Lady embodying the idea of Eternal Femininity (“The Golden Pot”); in the problem of duality which is manifested in the idea of metempsychosis (“Elixirs of the Devil”), as well as in the Hoffmann type of hero: Alberic (Anselm), Lady Oriana (Serpentina) and Hoffmann’s style: romantic irony and grotesque. In conclusion, the article shows that some romantic traditions dating back to Hoffmann are refracted in Lee’s short story, and the tragic ending of the story demonstrates the impossibility in the modern world of finding spiritual harmony, achieving an ideal world and returning to the Golden Age that romantics dreamed of.
s
E.T.A. Hoffmann; V. Lee; romanticism; aestheticism; “Hoffmann complex”; duality; mechanization of man and society; spiritual transformation; Eternal femininity.
Одним из преемников немецкого романтизма в английской литературе является эстетизм, о чем пишет А.А. Федоров в монографии «Эстетизм и художественные поиски» [Федоров 1993, 94]. Размышляя об автономности эстетического сознания, А.А. Степанова называет романтизм и эстетизм литературными направлениями, которые абсолютизируют эстетическую сферу и считают искусство самоценным, что демонстрирует преемственность некоторых идей романтизма в эстетизме [Степанова 2012, 6].
Ключевая роль в формировании английского эстетизма отводится именно немецкому романтизму, для которого основным направлением развития стало осмысление таких важных для эстетизма проблем, как поиск идеального мира, обретение гармонии духа через творчество, в то время как английский романтизм был сконцентрирован на идеализации английской природы и сельской жизни («озерная школа»), исторического и фольклорного прошлого Великобритании (В. Скотт), критике общества и поиске духовной свободы (Байрон, Шелли и др.).
А.А. Федоров указывает на романтические истоки принципа мифологизации в английском эстетизме [Федоров 1993, 94], а также отмечает не просто усвоение эстетизмом романтических традиций, но и дискуссионный характер восприятия принципов романтизма. Этого же мнения придерживается и ис- следователь немецкой литературы Р. Сафрански («Romanticism as an epoch has passed away, but the Romantic as an attitude of mind remains» [Safranski 2014, 269]). Он утверждает, что последующие эпохи обращаются к романтизму чаще всего намеренно, трансформируя его эстетические идеи, поэтому чтение таких произведений предполагает раскрытие тайных романтических установок [Sa-franski 2014, 269].
Эстетизм главным образом критикует принцип романтического двоеми-рия, основанный на контрастах, благодаря которым человек воспринимает мир двоично (добро и зло, мужское и женское начало, художник – филистер и др.). Разрушение полярности, по мнению эстетов, позволит человеку получить творческую свободу. Эта мысль о деконструкции бинарных оппозиций позже найдет продолжение в философии Ж. Дерриды, утверждавшего, что уход от «фиксированного значения», от сложившихся «истин» позволяет расширить смыслы произведения [Derrida 1987].
В английской литературе одним из представителей эстетизма является Вернон Ли. По словам В. Колби, « with Walter Pater as her inspiration, Vernon Lee launched her own philosophy of art and embraced aestheticism as its guiding principle» [Colby 2003, 56]. В произведениях В. Ли прослеживается влияние немецкого романтизма, особенно гофмановских традиций. На интерес к Гофману В. Ли указывала сама, отмечая роль его романа «Эликсиры дьявола» (1815) в эстетизации зла [Коковкина 2007, 137]. В. Ли не раз упоминает немецкого романтика и в связи с его музыкальной деятельностью и эстетическими воззрениями. Например, в своей искусствоведческой работе «Белькаро: Эссе о различных эстетических вопросах» (1883) В. Ли называет целую главу в честь главного героя Гофмана из цикла «Крейслериана» (1810–1815), а также восхищается немецким романтиком как гениальным юмористом [Lee 1880, 110]. Ли считает «сумасшедшего музыканта Гофмана» первым музыкантом-романтиком и старшим братом всех современных композиторов.
На гофмановские традиции в творчестве Ли исследователи уже обращали внимание. Так, М.П. Кейн называет писательницу поклонницей Гофмана [Kane 2004, 46]. П. Пулхам подчеркивает, что произведения писательницы имеют преемственность с Гофманом, Бальзаком и Мериме, чьи отголоски можно проследить в ее творчестве [Pulham 2008, 22]. К. Зорн отмечает, что Ли внимательно изучала Гофмана [Zorn 2003, 189]. В. Колби пишет о влиянии новеллы «Советник Креспель» (1816) на рассказ Ли «Зловещий голос» (1890) [Colby 2003, 230].
Таким образом, черты гофмановской поэтики, несомненно, нашли отражение в творчестве Ли. Однако в большей степени гофмановское влияние проявляется в рассказе «Принц Альберик и Леди-Змея», где эстетические взгляды Ли пересекаются с Гофманом. На этот факт в критике обращали внимание и ранее. Так, К. Зорн указывает на схожие мотивы с немецким романтиком, воплощенные c помощью молодого ученого, двойника женщины-змеи и монаха, который совершает языческое преступление [Zorn 2003, 190]. Биограф В. Ли В. Колби, размышляя об этой сказке, указывает на сходство ее с новеллой Гофмана «Золотой горшок» [Colby 2003, 230].
Несмотря на то что черты гофмановской поэтики в творчестве английской писательницы уже были замечены исследователями, отдельной работы, посвященной комплексному анализу влияния Гофмана в рассказе «Принц Альберик и Леди-Змея», еще не проводилось, чем обусловлена актуальность данной статьи. Изучение традиций немецкого писателя c помощью «гофмановского ком- плекса», сформулированного на примере русской литературы [Королева 2020], а также сравнительно-исторического, интертекстуального и описательного методов позволит не только выявить черты гофмановской поэтики в рассказе В. Ли, но более полно проанализировать ее трансформацию в художественном мире эстетизма.
Новизна темы обусловлена восприятием поздней гофмановской поэтики, основанной на идее разрушения романтического двоемирия и смешении бинарных категорий («Повелитель Блох», «Datura fastuosa» и др.), как переходного этапа к английскому эстетизму. Согласно нашей гипотезе, гофмановские традиции в сказке Вернон Ли проявляются комплексно и выражаются в осмыслении понятия «романтическое двоемирие», которое в рассказе Ли представлено разделением на мир ложного (неживой, кукольный, гротескный (Красный дворец)) и подлинного искусства (идеальный, живой, гармоничный (Замок Сверкающих Вод)) и связано с мифом о преображении души; в использовании романтических оппозиций ( реальное – ирреальное, прекрасное – безобразное, молодое – старое и др. ); в проблеме механизации человека и общества, связанной с идеей инициации героя-романтика, который, преодолев влияние неживого , искусственного мира, должен прийти к обретению творческой гармонии в мифологическом мире вместе с Леди-Змеей, олицетворяющей собой идею Вечной Женственности (Ewig Weibliche) («Золотой горшок»); в проблеме двойничества, которая проявляется в идее метемпсихоза («Эликсиры дьявола»), а также в героях гофмановского типа (Альберик (Ансельм), Леди Ориана (Серпентина)) и гофмановской стилистике (романтическая ирония и гротеск).
В основе рассказа В. Ли «Принц Альберик и Леди-Змея» лежит принцип двоемирия: разделение на мир ложного искусства характеризуется как неживой, кукольный, гротескный (Красный дворец)) и мир подлинного искусства – идеальный, живой, где царствует гармония человека и природы (Замок Сверкающих Вод). Контраст между мирами подчеркивается с помощью романтических оппозиций живое – неживое , реальное – ирреальное, прекрасное – безобразное, молодое – старое. Однако финал рассказа приводит к разрушению сложившейся полярности, что позволяет говорить о трансформации романтического мироощущения и символизирует появление новой эстетики, расширяющей смысловые рамки произведения.
Жители Красного дворца и в частности герцог де Луны Бальтазар Мария, представляют собой мир ложного искусства, основанный на роскошных балах, ярких представлениях, дорогих, но безвкусных украшениях: «...the brilliant tomato-coloured plaster which gave the palace its name...» [Lee 2004, 25]. Даже сад дворца выглядит искусственным, что подчеркивается с помощью гротеска в духе Гофмана: «they were the Twelve Cæsars, but multiplied over and over again – busts with flying draperies and spiky garlands» [Lee 2004, 25].
Гротеск был излюбленным приемом немецкого писателя, поскольку он помогал создавать неповторимые образы героев пугающими, что позволяло гиперболизировать проблемы общества. Например, с помощью гротеска Гофман описывает крошку Цахеса, подчеркивая его ничтожность: «Голова малыша глубоко вросла в плечи, и весь он, с наростом на спине и на груди, коротким туловищем и длинными паучьими ножками, напоминал посаженное на вилку яблоко, на котором вырезана диковинная рожица» [Гофман 1996, 191]. Однако общество, живущее по принципу «кто власть имеет, тот и прав», в своем ослеплении не замечает его уродливость и бездарность («он нес чистейшую околесицу, ворчал и урчал» [Гофман 1996, 228]) и с восторгом воспринимает все, что
Цахес делает: «князь закричал: “Прекрасно! Изрядно сказано! Великолепно!”» [Гофман 1996, 229].
В рассказе В. Ли принц Альберик с самого раннего детства чувствует себя чужим в Красном дворце, его пугают пышные балы, статуи в саду дворца и спектакли, в которых герцог, его дедушка, играет главные роли. Ему не разрешается выходить из своей комнаты, поскольку герцог позиционирует себя вечно молодым и наличие внука может выдать его настоящий возраст. Альберик, лишенный связи с миром реальным, погружается в мир грез и одушевляет в своем сознании мир, изображенный на гобелене, наполненный сказочными животными и птицами, которые олицетворяют для него другой мир – идеальный. Животные и птицы с гобелена становятся воображаемыми друзьями Альберика. Он с нетерпением ждет своего совершеннолетия, чтобы вырваться из плена мира «неживого», искусственного.
Герцог Бальтазар решает отправить принца в заброшенный замок Сверкающих вод – символ истинного искусства. Соединяясь с природой, принц словно оживает, и все его воображаемые друзья с гобелена и Замок становятся реальным воплощением идеального мира с холста. Принц счастлив от возможности созерцать настоящую красоту и живет в замке в полной душевной гармонии. Во время прогулки в саду Альберик наслаждается природой, осознает суть истинной красоты, восхищается каждым деревом, птицей и звуком и чувствует себя счастливым: «He was wonderfully calm, and his heart sang within him» [Lee 2004, 56].
Этот сад напоминает волшебный сад архивариуса Линдгорста из новеллы Гофмана «Золотой горшок» (1814), а также волшебный мир Атлантиды, который становится доступен Ансельму благодаря его любви и преданности к змейке, это место, где протагонист находит свой идеал. Подобную гармонию души Бальтазара на лоне природы Гофман описывает в новелле «Крошка Ца-хес, по прозванию Циннобер» (1819): «Когда наконец они вступили в прохладную сень благоухающей рощи, когда зашептали кусты, … Бальтазар внезапно остановился, широко распростер руки, словно собирался нежно обнять кусты и деревья» [Гофман 1996, 188].
Таким образом, создавая два противоположных мира в рассказе, Ли показывает, что современное искусство лишено естественного начала, поскольку все строится на богатстве и роскоши, а это не может быть основой истинного искусства.
С образом герцога Бальтазара в рассказе «Принц Альберик и Леди-Змея» связаны оппозиции прекрасное – безобразное и молодое – старое , которые создаются с помощью иронии и гротеска. Романтическая ирония – неотъемлемая часть произведений Гофмана. Так, в новелле «Повелитель блох» (1822) А.Б. Ботникова находит иронию романтика «разрушительной» [Ботникова 2003, 185]. Ли в рассказе размышляет о той грани, где прекрасное становится ужасным. В начале она изображает герцога благородным правителем: «Duke Balthasar Maria was a prince of enlightened mind and delicate taste...» [Lee 2004, 20]. Однако, по мере того как раскрывается образ герцога, становится ясно, что автор иронизирует над ним. На самом деле Бальтазар озабочен больше собственной персоной, нежели проблемами в своем государстве, поэтому он переживает о своих будущих похоронах и строит грот Суда Чести, роскошную часовню-склеп со своим памятником: «...and the statue, twelve feet high, representing himself in coronation robes of green bronze brocaded with gold, holding a sceptre and bearing on his head, of purest silver, a spiky coronet set with diamonds»
[Lee 2004, 63]. Несмотря на то, что герцог любит искусство и окружает себя красивыми вещами, Ли подчеркивает с помощью гротеска их уродливость, так как они искажают понятие подлинного искусства, которое должно быть основано на связи с идеальной природой.
Создавая образ герцогства, В. Ли опирается на традицию Гофмана в сказочной повести «Крошка Цахес», в которой княжество князя Пафнутия выглядит уродливо-гротескным. В новелле немецкого романтика князь заявляет курс на просвещение своего княжества, которое в действительности направлено на искоренение всего чудесного (выселение фей), а также укрощение природной стихии: «…прикажем вырубить леса, сделать реку судоходной, развести картофель, …проложить шоссейные дороги и привить оспу» [Гофман 1996, 182]. Гофман также критикует научные попытки человека вмешаться в гармонию человека и природы: «Манера профессора рассуждать о природе разрывает мне сердце. … Его так называемые опыты представляются мне отвратительным глумлением над божественным существом, чье дыхание обвевает нас в природе» [Гофман 1996, 189].
Ли подчеркивает, что в основе власти в герцогстве лежат три проблемы, которые искажают творческое сознание. Эти проблемы Ли олицетворяет в образах советников герцога: Иезуита, Карлика и Шута, символизирующих собой триединство (Иезуит – религия, Карлик – уродство (искажение понятия красоты), Шут – подхалимство (ложь)). Вместо того чтобы помогать герцогу создавать идеальное государство, они внушают правителю ложные идеи, которые приводят тщеславного герцога к потере гармонии с природой и искажению понятия красоты. Будучи еще на службе у герцога Бальтазара, советники пытаются втереться в доверие к Альберику – будущему герцогу, и даже предлагают ему отравить Бальтазара: «...each separately offered his services to Alberic in case he wanted a loan of money, a love letter carried, or in case even (expressed in more delicate terms) he might wish to poison his grandfather» [Lee 2004, 59]. Ли с иронией описывает сущность государства, управляемого амбициозным правителем, окруженным подхалимами и предателями.
Ложные идеи, внушенные советниками герцогу, приводят его к потере связи с реальностью. Он перестает отличать прекрасное от безобразного и верит в свою вечную молодость и красоту. Сцена с расчесыванием волос на голове герцога, насаженной на короткий шест, свидетелем которой становится Альберик, пугает юношу и демонстрирует иллюзию красоты его дедушки: «... he could see in an adjacent closet a man dressed in white, combing the long Rowing locks of what he recognised as his grandfather’s head, stuck on a short pole in the light of a window» [Lee 2004, 27]. Ли подчеркивает, что неувядающая молодость противоестественна и все попытки ее продлить – против природы, а искусственно созданная красота – уродлива. Ли противопоставляет этой искусственности Бальтазара естественную молодость и красоту принца Альберика, который повзрослев, выглядит мужественным и утонченным («Never, in his most genuine youth, had Balthasar Maria, the ever young and handsome, been one quarter as beautiful in person or as delicate in apparel as his grandson in exile among poor country folk» [Lee 2004, 37]). Именно принц Альберик олицетворяет истинную красоту.
В рассказе Ли находит продолжение и проблема двойничества, которая является одной из главных для немецкого романтика («Двойники» (1821), «Эликсиры дьявола» и др.). Она проявляется в идее метемпсихоза и выражается в оппозиции старый – молодой. Альберик – молодой юноша, который чувствует двойственность своей натуры. Ему кажется, что он стар душой, так как его душа воплощает родовое стремление к творческому преображению. Двойничество проявляется также и в трансформации образа змейки, которая принимает разные облики. В начале рассказа она изображается как девушка с хвостом змеи на гобелене, позже Альберик находит саму змейку, затем она приобретает человеческий облик, и наконец, предстает перед протагонистом как избавившаяся от чар леди Ориана.
С образами Альберика и змейки связана важная проблема, которую поднимает в рассказе Ли, – осмысление возможности достижения героем-романтиком идеального мира и обретения гармонии души, о чем писали немецкие писатели-романтики, в частности, Гофман («Золотой горшок»). Как у Гофмана, процесс инициации Альберика связан с образом змейки. Принц видит ее впервые на гобелене и влюбляется в нее. В. Ли подчеркивает родовую связь змейки и принца, так как ранее ее пытались расколдовать его предки. Сначала это был Альберик Белокурый, который обещал ждать змейку, но оказался неверен и влюбился в обычную девушку. Затем был второй Альберик, который также не смог сдержать своего обещания и стал монахом. Принц Альберик – третий юноша в роду – тоже решает служить змейке. Несмотря на то, что облик каждого представителя рода и их обстоятельства варьируются в физическом мире, душа не меняется, оставаясь верной своей цели. Когда герцог заменяет гобелен в детской, Альберик начинает чахнуть и в ярости рвет новое изображение на части, так как прежний гобелен со змеей был для него целым миром. Эта сцена становится первым этапом инициации героя, поскольку нарушается тесная связь Альберика с гобеленом, без него принц испытывает страдания. Встретив змейку в замке, он чувствует их духовную близость и понимает свое предназначение – оставаться ей верным в течение десяти лет, чтобы расколдовать Леди-Змею Ориану.
Эта история с родовым «проклятьем», которое нужно преодолеть для достижения гармонии духа, по всей видимости, Ли заимствует у Гофмана из романа «Эликсиры дьявола» (1815), где потомки художника Франческо должны искупить родовой грех, связанный с вероотступничеством Франческо от христианства (изображает вместо лика святой Розалии языческую богиню Венеру). Медардус из романа «Эликсиры дьявола» является носителем родового греха. Художник Франческо решает написать лик святой Розалии в облике богини Венеры, чем совершает преступление перед богом. Его потомок Ме-дардус, пройдя через искушения, должен вымолить прощение за грехи своего предка и вернуться в лоно христианства [Королева 2017]. Для Гофмана важно продемонстрировать связь творчества не только с природой, но и с религией. Поскольку эстетике романтизма свойственны любовь к художнику-поэту и культ художественного гения, который возводится к божественному знанию, религия и искусство перекликаются в творчестве романтика. По мнению писателя, художник получает особый дар творить от бога, а искусство облагораживает и учит творца [Гофман 1980, 190].
В. Ли трансформирует эту сюжетную линию Гофмана, снимая религиозный аспект. И, если у Гофмана значимое место занимает сама религия, то для В. Ли красота является религией. В рассказе «Принц Альберик и Леди-Змея» род Альберика – носитель художественного начала, которое предполагает умение видеть, ценить и воплощать в творчестве прекрасное, идея, которая восходит к романтической эстетике. Развивая эту идею, Ли возводит красоту в религию, так как девизом эстетизма, представителем которого была писатель- ница, является «искусство ради искусства». Родовое предназначение Альберика заключается в преодолении земного, чтобы дух художника соединился с Вечной Женственностью и попал в мир идеальный – мир подлинного искусства. Конечным этапом инициации рода Альберика должна стать идеальная (духовная) любовь к змейке и единение с природой. По этой причине предки принца, которые предпочли земную любовь и религиозное поприще, не смогли обрести свободы духа и освободить змейку.
Другим источником в рассказе для Ли становится новелла Гофмана «Золотой горшок», из которого писательница использует мотив любви к змейке, которая олицетворяет собой идеал, образ Вечной Женственности. Встретив змейку Серпентину, герой Гофмана Ансельм забывает свою реальную жизнь и возлюбленную Веронику и решает быть верным девушке-змее. Когда Ансельм в какой-то момент думает, что существование Серпентины ему привиделось, архивариус Линдгорст наказывает его, заточив в стеклянной бутылке. Благодаря этому юноша осознает, что девушка-змея реальна и остается верен ей навсегда. В награду за свою преданность он женится на своей возлюбленной и живет в волшебном мире. Эта новелла дает другой пример успешной инициации героя к познанию и преображению через отказ от связи с материальным миром и верность своему идеалу, поэтому в конце новеллы он преображается из неуклюжего филистера в поэта, получившего право жить в мифической Атлантиде [Королева, Притомская 2023]. Подобно гофмановскому герою, Альберик хочет пройти через испытания и спасти Леди-Змею Ориану от чар, за что дедушка наказывает его и отправляет в тюрьму Красного дворца.
Таким образом, принц Альберик должен преодолеть влияние «неживого», искусственного мира и прийти к обретению творческой гармонии в мифологическом мире вместе с Леди-Змеей, олицетворяющей мечту, символ подлинного искусства и идею Вечной Женственности (Ewig Weibliche). Тем не менее, ему не удается завершить инициацию, поскольку змею убивают, а сам принц вскоре умирает. Такой трагический финал рассказа Ли отражает переосмысление романтической идеи о возможности достижения идеала через творчество. По мнению Ли, современное общество искажает понятие красоты, разрушает духовную связь человека с природой, что приводит к появлению трагического мироощущения, декадентским настроениям и кризису искусства.
Подводя итоги, следует отметить, что в рассказе В. Ли прослеживается яркий пласт гофмановской традиции, который не только эффективно выделяется с помощью методологии «гофмановского комплекса», но и демонстрирует ее трансформацию в контексте эстетизма. Гофмановский интертекст проявляется в переосмыслении двоемирия, которое рассматривается сквозь призму искусства и демонстрирует мир реальный (искусственный, мертвый, уродливый (Красный дворец)) и мир идеальный (природный, живой, творческий (Замок Сверкающих Вод), в создании за счет романтических оппозиций контраста этих миров ( реальное – ирреальное, живое – неживое, прекрасное – безобразное, молодое – старое ), в гофмановской стилистике (романтическая ирония и гротеск). Трагический финал рассказа Ли указывает на невозможность творческой личности в современном механизированном обществе, построенном на выгоде, ложных идеалах и помпезной красоте, пройти инициацию и, преодолев влияние искусственного мира, прийти к обретению творческой гармонии в мифологическом мире вместе с Леди-Змеей, олицетворяющей собой идею Вечной Женственности (Ewig Weibliche).