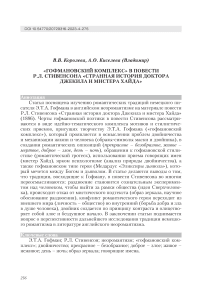«Гофмановский комплекс» в повести Р.Л. Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда»
Автор: Королева В.В., Киселева А.О.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Зарубежные литературы
Статья в выпуске: 4 (67), 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена изучению романтических традиций немецкого писателя Э.Т.А. Гофмана в английском неоромантизме на материале повести Р.Л. Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» (1886). Черты гофмановской поэтики в повести Стивенсона рассматриваются в виде идейно-тематического комплекса мотивов и стилистических приемов, присущих творчеству Э.Т.А. Гофмана («гофмановский комплекс»), который проявляется в осмыслении проблем двойничества и механизации жизни и человека (образы-символы маски и двойника), в создании романтических оппозиций (прекрасное - безобразное, живое -мертвое, доброе - злое, день - ночь), обращении к гофмановской стилистике (романтический гротеск), использовании приема говорящих имен (мистер Хайд), ярком психологизме (анализ природы двойничества), а также гофмановском типе героя (Медардус «Эликсиры дьявола»), который мечется между Богом и дьяволом. В статье делаются выводы о том, что традиции, восходящие к Гофману, в повести Стивенсона во многом переосмысливаются: раздвоение становится сознательным экспериментом над человеком, чтобы выйти за рамки общества (идея Сверхчеловека), происходит отказ от мистического подтекста (образ зеркала, научное обоснование раздвоения), конфликт романтического героя переходит из внешнего мира (личность - общество) во внутренний (борьба добра и зла в душе человека), двойник создается по принципу контраста и олицетворяет собой злое и бездушное начало. В заключении статьи поднимается вопрос о перспективности дальнейшего исследования традиции немецкого романтизма в литературе английского неоромантизма.
Э.т.а. гофман, р.л. стивенсон, неоромантизм, «гофмановский комплекс», двойничество, прекрасное - безобразное, доброе - злое, живое -неживое, день - ночь, образ зеркала, говорящие имена
Короткий адрес: https://sciup.org/149144356
IDR: 149144356 | DOI: 10.54770/20729316-2023-4-275
Текст научной статьи «Гофмановский комплекс» в повести Р.Л. Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда»
Произведения Э.Т.А. Гофмана отличаются яркой стилистикой, необычными образами, актуальной проблематикой, что способствовало формированию в русской литературе гофмановской традиции, которую мы рассматриваем как систему устойчивых элементов и определяем как «гофмановский комплекс» [Королева 2020, 18]. Семантическим ядром комплекса является проблема механизации жизни и человека, которая реализуется в образах-символах зеркала, маски, куклы, автомата, марионетки и двойника.
Черты гофмановской поэтики, безусловно, нашли развитие и в европейской литературе, особенно на рубеже XIX–XX вв., когда на фоне интереса к романтической традиции возникает неоромантизм. Вопрос о преемственности неоромантизма и романтизма в литературоведении поднимался не раз. Однако точки зрения на это литературное течение довольно противоречивые. Одни литературоведы не сомневаются, что неоромантизм формировался под влиянием романтизма и сохранил его основные черты [Федоров 1992; Анкудинов 2007; Кармалова 1999; Захарова 1990; Бойко 2000 и др.]. Другие рассматривают его в качестве принципиально нового варианта романтизма [Кружков 2003; Карасева 2003; Урнов 1970, 213 и др.]. Н.Т. Пахсарьян, например, отмечает связь романтизма и неоромантизма в общих принципах поэтики, «отрицанием всего обыденного и прозаического, пафосом личной воли, раздвоенностью рефлектирующего творческого сознания, обращением к иррациональному, “сверхчувственному”, склонностью к гротеску и фантастике, главенством музыкального начала, тяготением к синтезу всех искусств» [Пахсарьян 2007, 38]. В.М. Толмачев, исследуя неоромантизм, подчеркивает противоречивость этого определения, непоследовательность употребления и формулирует основные принципы неоромантического мироощущения, к которым относит стоическую концепцию личности, стилистику, лишенную романтических прикрас [Толмачев 2000; Толмачев 2003; Толмачев 2004].
В английской литературе одним из ведущих неоромантиков является Р.Л. Стивенсон, в произведениях которого неоромантическая концепция сформировалась наиболее полно. О.Ю. Осьмухина выделяет следующие ключевые признаки неоромантизма в творчестве Стивенсона: оптимистический пафос; жанровое предпочтение в виде авантюрно-приключенческого или психологического романа / повести с элементами готики; ключевая проблема – борьба Добра и Зла как в мире реальном, так и в натуре человека; герой – бесстрашный авантюрист, <…> а также рефлектирующий персонаж с раздвоенным сознанием; стремление к реалистичности, правдоподобию повествования [Осьмухина 2019, 174]. Очевидно, что большинство этих черт восходят к романтической традиции. В связи с этим становится актуальным вопрос поиска романтических источников, которые способствовали формированию неоромантической школы. На наш взгляд, одним из таких источников, повлиявших на Стивенсона, является творчество Гофмана. В большей степени черты гофмановской поэтики у Стивенсона проявились в повести «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» (1886).
О близости художественного метода Гофмана и Стивенсона в ряде произведений упоминалось и ранее. Так, В.В. Ванслов в работе «Эстетика романтизма» указывает на устойчивую традицию в создании двойника в мировой литературе, восходящую к Гофману [Ванслов 1966, 34]. Сходство гофмановских произведений и повести «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» также было отмечено в литературоведении. Например, Йен Белл пишет, что повесть «Доктор Джекил и мистер Хайд» выполнена в литературных традициях книг о двойниках» [Swearingen 2007, 245] и среди ведущих авторов, посвятивших свои произведения этой теме, называет Э.Т.А. Гофмана, Дж. Хогга, Э. По, Ф.М. Достоевского. Э. Стайлз в статье «Джекил и Хайд Роберта Льюиса Стивенсона и двойничество» упоминает, что двойничество у Стивенсона восходит к концепции Гофмана [Stiles 2006, 894].
Несмотря на отсылки к имени Гофмана в связи с повестью английского писателя, отдельной работы, посвященной анализу гофмановской традиции в повести Стивенсона, еще не было, чем обусловлена актуальность данной статьи. Исследователи отмечают преимущественно один аспект, восходящий к Гофману – двойничество, в то время как гофмановская традиция представлена в повести Стивенсона комплексно. На наш взгляд, анализ гофмановской поэтики в повести английского писателя позволит проследить восприятие традиции Гофмана и ее трансформацию в художественном методе Стивенсона. Этот станет вкладом в изучение источников, повлиявших на формирование неоромантизма в Англии, а также поможет проследить специфику его развития в английской литературе.
Согласно нашей гипотезе, гофмановские традиции в повести Стивенсона проявились комплексно и характеризуются: обращением к проблемам двойничества и механизации жизни и человека (образы-символы маски и двойника, образ зеркала), использованием романтических оппозиций ( прекрасное – безобразное, живое – мертвое, доброе – злое, день – ночь ), гофмановской стилистикой (романтический гротеск), глубоким психологизмом (осмысление природы двойничества), а также гофманов-ским типом героя (Медардус «Эликсиры дьявола»), который мечется между Богом и дьяволом.
Смысловым центром повести Стивенсона является осмысление природы двойничества, которое восходит к проблеме механизации жизни и человека, и перекликается с рядом гофмановских произведений: «Двойник» (1821), «Крошка Цахес» (1819), «Приключения в Новогоднюю ночь» (1815) и др. Особенно ярко проблема двойничества проявляется в романе Гофмана «Эликсиры дьявола» (1815), где в центре повествования раздвоенная личность Медардуса, который становится жертвой родового проклятья, связанного с грехопадением его предка художника Франческо. Медардус – носитель родового дуализма. Он мечется между борющимися в его душе добром (божественное начало) и злом (дьявольское начало). Трагедия Медардуса в том, что под влиянием рока он не может контролировать процесс внутренней борьбы в своей душе. Это приводит к появлению двойников. Первый его двойник – Викторин – его родовой двойник, Медардус неосознанно вытесняет его собой. Однако безумный Викторин – темная сторона души главного героя – преследует Медарду-са, провоцирует его на преступления или сам совершает их, воплощая греховные мысли главного героя. Белькампо – иронический двойник Медардуса. Это светлая сторона души Медардуса. Он своей иронией спасает главного героя в трагических ситуациях. Белькампо тоже страдает от внутреннего дуализма: «Этот мой заклятый враг, по имени Бель-кампо, <…> напивается, дерется, растлевает прекрасные, девственные мысли; этот Белькампо совращает и морочит меня, Петера Шёнфельда» [Гофман 1994, 99].
В душе доктора Генри Джекила, как в душе Медардуса, проявляются две натуры: порочная и добродетельная. Всю свою жизнь он мечтал быть уважаемым человеком и поэтому скрывал свои желания и тайные стремления: «...я находил, что трудно совмещать страсть к наслаждениям с настоятельной потребностью высоко держать голову и казаться людям более чем серьезным человеком» [Стивенсон]. Увлечение химией дает ему возможность приготовить микстуру, с помощью которой он становится совершенно другим человеком – мистером Эдвардом Хайдом, который реализует потаенные порочные мысли Генри: «Я с каждым днем все больше и больше убеждался, что человек не одно существо, а два» [Стивенсон]. Ощущение власти над другими и осознание собственной безнаказанности дает ему возможность почувствовать себя Сверхчеловеком. Теперь он может делать то, что хотел, не боясь осуждения своих знакомых: «Маскируясь таким образом, я хотел только наслаждаться, выражаясь жестоко, непочтенными удовольствиями…» [Стивенсон].
Гофман в своих произведениях, создавая двойников, часто усиливает мотив двойничества с помощью повторения имен. Например, в романе «Эликсиры дьявола» немецкий писатель дает некоторым персонажам одинаковые имена, чтобы сделать акцент на их родовую связь, а также их внутренний дуализм: Франческо – художник, от которого пошел проклятый род, отец Медардуса – Франциск, сам главный герой тоже имеет от рождения имя Францискус. Все эти представители рода связаны со святой Розалией, портрет которой художник Франческо написал в образе языческой богини Венеры, подчеркнув в ее образе телесное начало, за что был наказан Богом. Медардус – последний представитель рода – должен искупить этот грех, поэтому образ Розалии преследует его повсеместно. По этой причине он неосознанно, находясь в монастыре, выбирает себе имя Медардус, которое восходит к епископу Медардусу, учредившему праздник роз 8 июня, когда увенчивали достойнейшую девицу в епархии венком из роз, и это предопределяет покровительство герою святой Розалии. Другим вариантом игры с именами у Гофмана является использование одинаковых имен на другом языке одними и теми же героями. Например, парикмахер Петр Шёнфельд (с немецкого – «красивое поле») просит называть себя Пьетро Белькампо, что является итальянским вариантом его имени и фамилии.
Стивенсон также обращается к приему говорящих имен с той только разницей, что имена не повторяются, а содержат в себе семантику той роли, которую они играют в этой истории. Например, фамилия адвоката Аттерсона – рассказчика истории – берет свое начало от слова «utter» – произносить, выражать словами, излагать. Имя доктора Джекила указывает на то, что он – самоубийца, поскольку «Je» с французского означает «я», а под второй частью его фамилии подразумевается глагол «kill» – «убивать». Имя таинственного мистера Хайда также является говорящим, слово «hide» в переводе означает «скрывать, прятаться». Расследуя это дело, адвокат однажды размышляет над именем преступника: «Если он мистер Хайд, то я – мистер Сик» [Стивенсон]. Автор использует игру слов, так как глагол «seek» переводится как «искать, разыскивать».
Стивенсон показывает контраст между личностями одного человека с помощью приема антитезы, который проявляется в оппозициях: доброе – злое, прекрасное – безобразное, темное – светлое . Деление мира на бинарные оппозиции – традиция, которая восходит к романтизму. В художественном мире Гофмана персонажи часто выстраиваются по принципу контраста. Например, белая дьяволица в романе «Эликсиры дьявола» скрывает под прекрасным обликом дьявольскую сущность. Сходным образом характеризуется Юлия из новеллы «Приключение в новогоднюю ночь».
Именно так строится двойник у Стивенсона. Однако если у Гофмана в романе «Эликсиры дьявола» это раздвоение, основанное на борьбе добра и зла, происходит в душе одного человека, и усложняется появлением внешних двойников, то у Стивенсона две сущности разделяются, поэтому они выглядят, чувствуют и ведут себя по-разному. Двойники полностью отличаются внешне. Генри Джекил был достаточно приятным мужчиной: «... по выражению глаз этого высокого, полного, пятидесятилетнего человека с мягким <…> лицом, <…> носившем отпечаток талантливости и доброты, было видно, что он искренне и глубоко любил Аттерсона» [Стивенсон]. Эдвард Хайд, напротив, выглядит отталкивающе: «В наружности Хайда есть что-то нехорошее, что-то неприятное, что-то прямо отталкивающее. <…> Он производит впечатление урода…» [Стивенсон]. В отличие от Джекила, Хайд маленького роста и больше похож на карлика. Стивенсон, создавая образ Генри, использует прием контраста: приятный внешне Генри и гротескно уродливый Хайд. Портрет Хайда отсылает нас к гофмановской традиции, а именно к образу Крошки Цахеса из одноименной новеллы, который создается с помощью гротеска: «отвратительный уродец в три фута ростом и мерзким голосом» [Гофман 1996, 208]. С другой стороны, пугающий эффект, который производит Хайд на людей («С первого взгляда мой джентльмен внушил мне отвращение» [Стивенсон]), напоминает образ Коппелиуса из «Песочного человека» Гофмана («Весь его облик вселял ужас и отвращение» [Гофман 1994, 293]).
Проблема механизации общества и человека – одна из ведущих в творчестве Гофмана. Она раскрывается в оппозиции живое – мертвое, как, например, в новелле «Песочный человек», где Натаниэль влюбляется в куклу Олимпию. По мнению Гофмана, люди перестали ценить душу человека, «неживая», бездушная кукла (Олимпия) оказывается лучше, чем живая девушка (Клара). Натаниэль, попав под влияние куклы, становится сам душевно больным. У Стивенсона эта проблема проявляется в мотиве омертвения души. Мы наблюдаем в повести постепенную утрату личности и души Генри Джекилом, процесс, который уже невозможно остановить: «Кто-то плакал в кабинете, плакал как женщина или как погибшая душа» [Стивенсон]. Окружающие отмечают, что доктор словно надел маску на лицо, которая сделала его жестоким и равнодушным: «Сэр, если это был доктор, зачем он надел маску на лицо?» [Стивенсон]. Все человеческое, что было у Генри, вытесняется личностью мистера Хайда, которому несвойственны положительные эмоции и переживания. Так, например, сбив девочку на улице, он не только не проявляет милосердие и раскаяние, а наоборот, идет прямо по ней: «прохожий спокойно наступил на упавшую девочку и пошел дальше, не обращая внимания на ее стоны» [Стивенсон]. Хайд ведет себя отчужденно, словно кукла, которая не имеет каких-либо чувств: «посреди их стоял странный человек с выражением какого-то мрачного, насмешливого спокойствия на лице» [Стивенсон]. Окружающие отмечают печать сатаны на его облике.
Таким образом, размышляя над проблемой омертвения души, Стивенсон, следуя традиции Гофмана, создает оппозицию живое – мертвое . Герой английского писателя, в отличие от Медардуса Гофмана, который, как марионетка, движим страхом и роком, сознательно устраивает эксперимент над своей личностью, пытаясь понять, до какой степени он может контролировать свою темную сторону. Этот процесс имеет научно-экспериментальный характер. Сам Джекил говорит, что, используя лекарство, он смог разграничить в себе добро и зло, все его злые намерения были воплощены с помощью Хайда. Писатель убежден, что, если дать своему злому началу свободу, это приведет к омертвлению души, что мы видим в поступках Хайда, а также его равнодушии к окружающим.
Трагедия Генри в том, что он переоценил возможность управлять своим вторым «Я». В результате его темная сторона одерживает победу над добрым началом. Стивенсон приходит к выводу, что игры человека со своим сознанием приводят к трагедии. В отличие от героя Гофмана Медарду-са, который побеждает в поединке со своим греховным началом, Генри становится жертвой своего собственного « Я». К концу своего эксперимента доктор Джекил уже не может контролировать изменения личности, Хайд становится сильнее и полностью завладевает телом и душой. В результате Хайд, покончив жизнь самоубийством, убивает и доктора Джекила. Таким образом, Стивенсон показывает в гротескной форме, что может произойти с человеком, если он поддастся своим внутренним желаниям и забудет о нравственности и морали.
Противостояние добра и зла у Стивенсона в повести связано с оппозицией темное (ночь) – светлое (день) , которая отражает две стороны души главного героя. Все злое, темное, порочное выходит на поверхность ночью: «унылый квартал Сохо с его грязными улицами, неопрятными прохожими и фонарями, <…> казался адвокату частью какого-то города, явившегося ему в кошмаре» [Стивенсон]. Ночь ассоциируется с пустотой, страхом, одиночеством, предчувствия несчастья. Хайд, темная сторона доктора, совершает свои преступления только в темное время суток, тогда как сам доктор, добрый и веселый человек, любит проводить время в саду днем.
Кабинет Джекила имеет важное смысловое значение, это место, где он меняет облик и сущность, где запирает себя, боясь того, что зло выйдет наружу в те моменты, когда он не может его контролировать. На первый взгляд, кабинет не имеет ничего примечательного. Это большая комната, заставленная стеклянными шкафчиками. Главная деталь интерьера – зеркало, которое, по словам одного из героев, «видело странные вещи» [Стивенсон]. Именно зеркало отражает внутреннюю и внешнюю раздвоенность героя, его ужасные перевоплощения.
Образ зеркала был значимым и в творчестве Э.Т.А. Гофмана. В одних произведениях оно является окном в другой потусторонний мир, как например, в новелле «Золотой горшок». В других – искажает действительность. В новелле «Приключения в новогоднюю ночь» Джульетта пытается уговорить Эразма подарить ей свое отражение в тот момент, когда они смотрятся в большое красивое зеркало, и герой видит иллюзию счастья: влюбленные нежно обнимают друг друга. В новелле «Пустой дом» Гофмана Теодор попадает в зависимость от своего двойника – отражения в зеркале: «когда образ в зеркале тускнел, меня охватывало физическое недомогание. <…> Но тут же возникало жуткое чувство, будто эта фигура – я сам, и меня окутывает и обволакивает туман, выступивший на стекле» [Гофман 1996, 23]. У Стивенсона в повести «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» зеркало утрачивает значение посредника между миром реальным и потусторонним. Генри преследует не инфернальный двойник, а созданный им самим в реальности. Зеркало лишь отражает реальные изменения личности Джекила. В неоромантизме ответственность за раздвоение перекладывается на плечи самого героя, который почувствовал себя Богом.
Таким образом, гофмановские традиции в повести Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» проявляются системно в виде «гофмановского комплекса», который характеризуется обращением к проблемам двойничества и механизации жизни и человека (образы-символы маски и двойника, образ зеркала), использованием романтических оппозиций ( прекрасное – безобразное, живое – мертвое, доброе – злое, день – ночь ) и гофмановской стилистики (романтический гротеск), характерным для Гофмана глубоким психологизмом (осмысление природы двойниче-ства), а также гофмановским типом героя (Медардус «Эликсиры дьявола»).
Романтические традиции, восходящие к Гофману, в произведении Стивенсона переосмысливаются: раздвоение становится сознательным экспериментом над личностью в попытке человека претендовать на роль Сверхчеловека, что приводит к омертвению души. Мистический подтекст утрачивается и события обосновываются научными фактами, что способствует эффекту реалистичности происходящего. Образ зеркала перестает быть мистическим элементом, который соединяет два мира: реальный и потусторонний. Традиционная для романтизма борьба добра и зла перемещается из внешнего мира в душу человека, а материализовавшийся двойник – это лишь следствие этой внутренней борьбы. Двойник создается по принципу контраста и олицетворяет собой злое, уродливое и бездушное начало.
На наш взгляд, комплексный подход к изучению традиции Гофмана является актуальным, поскольку позволяет проследить влияние гофма-новской поэтики на английскую литературу даже там, где она выражена неявно. Дальнейшее изучение влияния творчества Гофмана на литературу Англии позволит проследить роль немецкого романтизма в формировании неоромантизма, а также определить специфику «гофмановского комплекса английской литературы».
Список литературы «Гофмановский комплекс» в повести Р.Л. Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда»
- Анкудинов К.Н. Современная неоромантическая поэзия как «параллельная культура» // Вестник Адыгейского государственного университета. 2007. № 2. С. 138-144.
- БойкоМ.Н. «Неоромантизм» в творчестве Александра Грина // Мифы эпохи и художественное сознание: искусство 30-х. М.: Государственный институт искусствознания, 2000. С. 3-121.
- Ванслов В.В. Эстетика романтизма. М.: Искусство, 1966. 397 с.
- Гофман Э.Т.А. Собрание сочинений: в 6 т. Т. 2: Эликсиры дьявола; Ночные этюды. Ч. 1. М.: Художественная литература, 1994. 445 с.
- Гофман Э.Т.А. Собрание сочинений: в 6 т. Т. 3: Ночные этюды. Ч. 2: Крошка Цахес; Принцесса Брамбилла; Рассказы 1819-1821 годов. М.: Художественная литература, 1996. 557 с.
- Захарова Н.Н. Поэзия Роберта Луиса Стивенсона и традиции английского романтизма: автореф. дис. ... к. филол. н.: 10.01.03. Л., 1990. 20 с.
- История зарубежной литературы XX века. 1871-1917 / под ред. В.Н. Богословского, З.Т. Гражданской. М.: Просвещение, 1989. 416 с.
- Карасева Т.Б. Повести Д.К. Джерома «Трое в лодке, не считая собаки» и «Трое на прогулке» и неоромантические тенденции в английской литературе конца XIX - начала XX в.: автореф. дис. ... к. филол. н.: 10.01.03. Самара, 2003. 20 с.
- Кармалова Е.Ю. Неоромантические тенденции в лирике Н.С. Гумилева 1900-1910 годов: дис. ... к. филол. н.: 10.01.01. Омск, 1999. 188 с.
- Королева В.В. «Гофмановский комплекс» в русской литературе конца XIX - начала XX веков: монография. Владимир: Шерлок-пресс, 2020. 306 с.
- Кружков Г.М. Communw poetarum: У.Б. Йейтс и русский неоромантизм: дис. ... к. филол. н.: 10.01.03. М., 2003. 217 с.
- Никонов С.С. Мотив раздвоения личности в повести Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» // Филология и лингвистика в современном мире: материалы I Междунар. науч. конф. (г. Москва, июнь 2017 г.). М.: Буки-Веди, 2017. С. 22-23.
- Осьмухина О.Ю. Специфика преломления неоромантической традиции в творчестве Р.Л. Стивенсона // Научный диалог. 2019. № 11. С. 173-185.
- Пахсарьян Н.Т. Неоромантизм // Культурология: энциклопедия: в 2 т. Т. 2. М.: РОССПЕН, 2007. С. 38.
- Стивенсон Р.Л. Странная история доктора Джекила и мистера Хайда. URL: https://royallib.com/book/stivenson_robert/strannaya_istoriya_doktora_dgekila_i_ mistera_hayda.html (дата обращения: 27.03.2023).
- Толмачев В.М. Неоромантизм // Литературная энциклопедия терминов и понятий. М.: Интелвак, 2003. Стлб. 640-646.
- Толмачев В.М. О границах символизма // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета: Филология. Философия. История. 2004. № 3. С. 247-267.
- Толмачев В.М. Романтизм: лицо, культура, стиль // «На границах»: зарубежная литература от средневековья до современности / ред. Л.Г. Андреев. М.: Экон, 2000. С. 104-116.
- Урнов Д.М. На рубеже веков: очерки английской литературы. Конец XIX -начало XX в. М.: Наука, 1970. 432 с.
- Федоров А.А. Идейно-эстетические искания в английской прозе последней трети XIX века: автореф. дис. ... д. филол. н.: 10.01.03. М., 1992. 42 с.
- Stiles A. Robert Louis Stevenson's "Jekyll and Hyde" and the Double Brain // Studies in English Literature, 1500-1900. Vol. 46(4). P. 879-900.
- Swearingen R.G. Recent Studies in Robert Louis Stevenson: Survey of Biographical Works and Checklist of Criticism - 1970-2005 // Dickens Studies Annual. Vol. 38. P. 205-298.