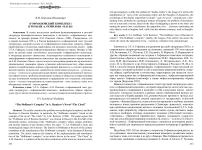"Гофмановский комплекс" в романе А. Ремизова "Часы"
Автор: Королева Вера Владимировна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Компаративистика
Статья в выпуске: 3 (58), 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуется проблема функционирования в русской литературе неомифологических комплексов, в частности, «гофмановского комплекса» на примере романа А.М. Ремизова «Часы» (1908). Утверждается, что в первой половине Х1Х в. в России формируется «гофмановский текст русской литературы», который состоит из «гофмановского комплекса» (сюжеты, образы, проблематика и стилистика, характерные для немецкого писателя), имени - мифа Э.Т. А. Гофмана, а также мифологизированных образов его героев. Интерес к Гофману на рубеже веков способствует актуализации «гофмановского комплекса» в литературе русского символизма. Анализируются особенности воплощения и трансформации «гофмановского комплекса» как художественного приема в романе А.М. Ремизова «Часы»: синтез искусств (построение романа как музыкального произведения), двоемирие (прием «удвоения действительности»), образ-символ зеркала (гиперболизация пороков окружающей реальности и способ отражения мыслей героев), психологизм, двойничество (оппозиции прекрасное - уродливое, великое - ничтожное), разрушительная ирония, нашедшая воплощение в гротескном образе хохота, проблема механизации человека и общества, которая основана на идее подчинения человека времени и превращения его в механизм: оппозиция живое - неживое (одушевление не только предметов - смех, колокол, стены, но и абстрактных понятий - мысли, время).
Э.т.а. гофман, а.м. ремизов, гофмановский текст русской литературы, гофмановский комплекс, двойничество, образы зеркала, луны, круга, часов, оппозиция живое - неживое, романтическая ирония и гротеск
Короткий адрес: https://sciup.org/149139246
IDR: 149139246 | DOI: 10.54770/20729316_2021_3_432
Текст научной статьи "Гофмановский комплекс" в романе А. Ремизова "Часы"
Значимость Э.Т.А. Гофмана для развития русской литературы XIX в. в современном литературоведении не вызывает сомнений. Об этом писали А.Б. Ботникова, С.С. Игнатов, С.К. Родзевич, П. Морозов, Л. Израилевич и другие, обращая внимание на сходные с Гофманом сюжетные ситуации, аналогичные образы и мотивы в творчестве М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского, В.Ф. Одоевского, А. Погорельского, А.К. Толстого, Н.А. Полевого и др. Популярность Гофмана в России в 30-40-е гг. XIX в. способствовала формированию «гофмановского текста русской литературы», который включает в себя следующие макрокомпоненты: сюжеты, образы, проблематика и стилистика, характерные для писателя, которые мы определяем как «гофмановский комплекс», мифологизированный образ самого Гофмана (имя-миф), а также мифологизированные образы его героев [Королева 2021].
Важным элементом «гофмановского текста русской литературы» является «гофмановский комплекс», который определяется целостностью воспроизводимого содержания и включает в себя следующие черты: синтез искусств (попытка соединить в рамках одного произведения разных видов искусств («Крейслериана I»)), романтическую иронию и гротеск (характеризуется постоянной сменой серьезного и несерьезного («Золотой горшок», «Крошка Цахес»)), психологизм (погружение в глубины психики человека и поиск причины раздвоения («Эликсиры дьявола»)), тематиза-цию проблемы механизации жизни и человека, поставленной Э.Т.А. Гофманом, через разработку образов-символов маски, куклы, автомата, марионетки и двойника, которые подменяют человека («Песочный человек», «Автоматы», «Принцесса Брамбилла»); зеркала, множащего сущности; глаз как способа распознавания подлинности живого - неживого («Песочный человек»), «Гофмановский комплекс» становится источником рецепции и основой для творческого переосмысления в литературе Серебряного века.
На рубеже XIX XX вв. интерес к творчеству Гофмана возрождается, на что указывают многочисленные упоминания немецкого романтика символистами и теми, кто входил в их круг общения. Имя Гофмана встречается в эссеистике, дневниках и записных книжках А. Блока, А. Белого, Г. Чулкова,
Вяч. Иванова, М. Кузмина и др. Последний, например, пишет о популярности коллективного чтения Гофмана (дневник 1915 г): «Читали Гофмана. Рассуждали» [Кузмин 2005, 530]. Кроме того, Кузмин в дневниковой записи от 21 июля 1906 г. свидетельствует о попытках подражания Гофману: «Сережа (Судейкин) писал романтический рассказ в духе несколько Гофмана» [Кузмин 2005, 543]. На важность немецкого писателя для эпохи Серебряного века указывает и В.Н. Топоров: «Творческая элита 1910-х гг. сама ощущала сходство своего мира с миром Гофмана <.. .>. Сама фигура Гофмана, как и его творчество, в 10-е годы привлекает к себе исключительное внимание. В этом отношении с ними могут сравниться только 30-40-е годы XIX века <...>. Кульминационный момент второй волны русского гофманианства, подготовленной (по крайней мере, внешне) появлением восьмитомного собрания его сочинений в самом конце XIX века, -1914 год, когда появились довольно многочисленные публикации, посвященные Гофману» [Топоров 2003, 461].
Творчество писателя А.М. Ремизова-яркий пример функционирования «гофмановского текста» в русской литературе рубежа веков, что проявляется в мифологизации им образа самого Гофмана, а также использовании «гофмановского комплекса» как литературного приема, который в произведениях русского писателя преломлялся через его самобытный стиль. Ремизов считает, что «Э.Т.А. Гоффман едва ли не самый первый по влиянию на русскую литературу: на Пушкина, Гоголя и Марлинского, а через них на Толстого и Достоевского, или, что тоже, на всю русскую Библию, через которую неминуемо проходит всякий русский писатель» [Ремизов 2000-2003, IV, 212-213].
Вопрос о А.М. Ремизове и Э.Т.А. Гофмане до сих пор в литературоведении поднимался мало, хотя заслуживает серьезного изучения, т.к. русский писатель неоднократно упоминает Гофмана в своих произведениях и дневниках, где открыто говорит о важности немецкого романтика для формирования своего творческого метода: «... из писателей самым близким я чувствую Э.Т.А. Гоффмана» или «... мое пристрастие к волшебному -“таинственному” от Э.Т.А. Гоффмана “Meine Muttersprache - Deutsch!”» [Ремизов 2000-2003, X, 291].
Влияние Гофмана на Ремизова отмечает и И.А. Ильин, который свидетельствует, что Ремизов довольно рано «...начал неотрывно читать “взрослые” книги; а когда он отрывался от книги, его “разбирало” выдумывать всякие небылицы! И все это таинственно связалось на всю жизнь с Э.Т.А. Гофманом...» [Ильин 1959, 92]. Философ и писатель обращает внимание не только на близость мировосприятия Ремизова и Гофмана, но и на сходство их художественного метода: погружение в мир фантастики: «начал предаваться тем махаонным мечтам, той полусонной фантастике, которою когда-то спасался Гофман и которая давала Ремизову и защитный механизм (“скорлупу”)» [Ильин 1959, 435].
Б. Филиппов, размышляя о мифотворчестве Ремизова, обращает внимание на особый путь писателя, на котором возникает имя Гофмана:
«Скорее - это некое постижение внутренней сути действительности, самой идеи ее; путь, каким шли к ее постижению и отвоплощению Гоголь и Иероним Босх, Гофман и Брейгель. <...> И мифотворчество Ремизова, если в грубо-биографическом, в психобиологическом плане и было отчасти защитной реакцией, уходом от убийственной действительности, то в плане духовном, творческом - было скорее постижением идеи, сути происходящего» [Филиппов 1891, 224-225].
Современники Ремизова не только отмечали гофмановское влияние на русского писателя, но и воспринимали его через призму Гофмана (мифологизация имени). Чулков, например, пишет: «Ремизов-художник неоткровенен и несветел: он так же темен, многолик и скрытен, как Гофман. Бродить по лабиринту его творчества и утомительно, и трудно. Это не светлый сад <...>. Это запутанная система комнат и коридоров, где полумрак, где душно <...>. Тусклое эхо повторяет жуткий смех под темными сводами» [Чулков 1999, 119].
Гофмановские традиции у Ремизова в большей степени нашли отражение в романе «Часы» (1908), где они проявляются системно в виде идейно-тематического «гофмановского комплекса», который в его творчестве не только становится литературным приемом, но и переосмысливается. На наш взгляд, анализ специфики трансформации этого комплекса в произведении русского писателя является весьма актуальным, т.к. позволяет проследить закономерности развития «гофмановского текста русской литературы» в эпоху Серебряного века.
В романе Ремизова «Часы» можно выделить следующие черты «гофмановского комплекса»: синтез искусств, романтическую иронию и гротеск, двоемирие, основанное на смешении мира реального и ирреального, которое проявляется в символических снах и внутренних монологах героев, авторское воплощение проблемы рока, образ-символ зеркала, гиперболизирующий реальность, глубокий психологизм, двойничество, проблему механизации человека и общества, которая основана на идее подчинения человека времени и превращении его в механизм и отражается в оппозиции «живое-неживое».
В основе «Часов» лежит принцип романтического двоемирия: деление мира на реальный и ирреальный. Реальный мир в романе погружен в атмосферу безысходности, ощущения трагедии. Ирреальный мир - мир снов и мыслей, которые одолевают героев и начинают ими управлять. Это приводит к трагедии, как в случае с Нелидовым, или к сумасшествию, что происходит с Костей, ощущающим себя в своем придуманном мире Богом, которому предначертано остановить время. В отличие от романтического двоемирия, где мир фантастический - идеальный, гармоничный, у Ремизова мир ирреальный находится на грани безумия, он перекликается с миром реальным и отличается не меньшим трагизмом («принцип удвоения действительности»). Эта традиция восходит к Гофману, который в своих произведениях разрушает традиционное двоемирие: мир реальный у него проникает в мир идеальный, и, наоборот, в результате происходит

развенчание мира идеального («Повелитель блох»).
Важную роль в создании «другого мира» у Ремизова играет образ зеркала, который традиционно является дверью в иную реальность. Например, у Гофмана в новелле «Песочный человек» Натанаэль под влиянием стекол и зеркал попадает в мир, где кукла Олимпия кажется ему живой. У Ремизова же зеркало имеет другую смысловую нагрузку: оно не просто отражает неприглядную действительность, но и заостряет внимание героев на их недостатках или же вскрывает их тайные мысли: «Пришла Катя, ... подошла к зеркалу, посмотрелась так, будто кто смотрел на нее, - запечалилась» [Ремизов 2000-2003, IV, 22] или «.. .заглянула она [Христина] мимоходом в зеркало, встретилась глазами, вдруг закраснелась, - потупилась» [Ремизов 2000-2003, IV, 61]. Костя мечтает увидеть в зеркале другой нос, но видит свой уродливый: «Сколько раз дома перед зеркалом зажимал Костя между пальцами этот кривой свой нос, сжимал его до тех пор, пока не казалось, что нос выпрямился» [Ремизов 2000-2003, IV, 7]. В попытке бежать от реальности Кости разбивает зеркало: «И свистнул кружок -шарахнула дверь, ах!!! - затряслась сверху донизу. Сыпались звенящие стеклышки, звенели, как мелкое серебро...» [Ремизов 2000-2003, IV, 52]. С зеркалом связан образ луны, который получает зеркальную семантику: отражение порочной действительности: «Луна, как здоровая женщина, задымленная хмелем морозного облака, нагая катилась по небу» [Ремизов 2000-2003, IV, 12]. Или: «Бездымная луна еле держалась, истощенная с бродящей зачатой болью и отвращением в разжиженной излишеством пе-репылавшей крови» [Ремизов 2000-2003, IV, 30].
Мысли героев в романе «Часы» поглощены идеей неизбежности трагедии, практически все персонажи находятся в состоянии обреченности. Как справедливо отмечает Г.Н. Слобин: «Повесть Ремизова безысходна. В ней нет ни иной, высокой реальности, ни искупления личности, ни облегчения через духовную жизнь или религиозный обряд; “Часы” предлагают только замкнутый круг космического отчаяния для всех причастных к первородному греху» [Слобин 1997, 7]. Весь роман пронизывает вера в мрачное предопределение, в рок. Эта идея - центральный мотив мировоззрения Ремизова, который считает, что существование человека определяется действием неподвластных человеку мистических сил. Проблема рока у Ремизова перекликается с романом Гофмана «Эликсиры дьявола», где немецкий писатель показывает силу предопределения и неспособности человека уйти от своей судьбы. Медардусу суждено искупить грех своего рода, который восходит к его предку художнику Франческо. Герой вовлечен в ряд событий против воли, которые посылает ему рок. Он не понимает, кто он и что делает, и мечется на грани безумия, преследуемый двойниками: «Я все более убеждался, что не я, а посторонняя власть, внедрившаяся в меня, навлекает невероятное, а я сам - лишь безвольное орудие, которым она пользуется ради неведомой цели» [Гофман 1991, II, 12].
С темой рока в повести Ремизова связан образ круга, который символизирует замкнутое пространство, неизбежный круг времени, неспособ-436
ность разрушить роковую цепочку Особенно ярко эта символика проявляется в снах героев. Например, Христине снится толпа маленьких девочек в белых платьицах, которые кольцом окружают ее и не дают уехать. Костя видит, как не может вырваться из круглого граммофона: «Подымется на немного - соскользнет. ... Из сил выбился, да и граммофон сужается: жмет, колет, сдирает ему волосы» [Ремизов 2000-2003, IV, 32].
Роман Ремизова вслед за Гофманом проникнут глубоким психологизмом. Герои «Часов» находятся на грани отчаяния, что проявляется во внутренних монологах и символических снах, которые отражают глубину переживаний героев. Тема безумия у Ремизова связана с образом Кости, живущего с мыслью о своем уродстве. Его недовольство собой и миром сконцентрировано на носе, который является главной причиной его неполноценности: «А был он такой странный и чудной, и как ни сжимался, как ни прятался, всякому в глаза лез» [Ремизов 2000-2003, IV, 7]. Мечта о правильной форме носа становится для него навязчивой идеей: «Костя чувствовал свой нос, как рану, - разрасталась рана где-то в сердце и, как тяжесть, - тяжелела она со дня на день, становилась обузней и пригибала и ломала хребет» [Ремизов 2000-2003, IV, 7]. Ненависть к собственному носу порождает у него агрессию к чужим носам, например, он кусает Лидочку за красивый «сахарно-выточенный» носик.
Сознание Кости раздваивается: с одной стороны в нем борются неудовлетворенность собой и неприятие окружающими, с другой стороны - возвеличивание себя в своем сознании, попытка уподобиться Богу. Особенно ярко это проявляется в те моменты, когда он на колокольне заводит часы. В мире реальном Костя кажется жалким и нелепым: «... забившийся в чулан сидит на поганом ведре раздетый в длинных черных чулках Костя, не Костя Клочков, а Костя Саваоф, не Костя Клочков, а ворона, и сидит, несет яйца гусиные да утиные, считает тараканьи шкурки ... ковыряет свой кривой изуродованный нос...» [Ремизов 2000-2003, IV, 94]. Болезненное сознание Кости, наоборот, преуменьшает, уничижает его сущность, поэтому он часто ассоциирует себя с животным, птицей, насекомым и даже неодушевленным предметом: сыщиком Куринасом, конем серым в яблоках, вороной, осоедом, лягушачьей лапкой, «отрезанной шкулепой на тараканьих ножках» [Ремизов 2000-2003, IV, 88]. В его облике подчеркивается сходство с лягушкой: «... и сидел так мучительно долго, надутый, с выпученными глазами, и надувался, как лягушка», «дрыгал по-лягушачьи ногами» [Ремизов 2000-2003, IV, 94] или «лицо его зеленело, как у лягушки» [Ремизов 2000-2003, IV, 39]. Пересечение его сущностей в реальности проявляется в попытке управлять людьми доступными средствами, например, с помощью лягушечьей лапки: «Средство есть. Верное. Надо лягушку. Надо изловить лягушку. Отломить у лягушки левую заднюю лапку. Высушить лапку и незаметно, чтобы никто не видел, зацепить кого хочешь» [Ремизов 2000-2003, IV, 38].
По-другому он ощущает и ведет себя в мире ирреальном. Безумие все больше овладевает им, расширяя его сознание и перенося в новые, соз-
данные его фантазией миры: «Ковылял Костя, не Костя Клочков, а Костя Саваоф, высовывал язык, улыбался: пораскладывал своим божеским разумом, пораздумывал, чего бы ему натворить еще, каких миров, каких земель <...> или обратить ангелов в чертей, или вставить стекло в небо, чтобы через него видно было, что на небесах делается, или смешать все и по-чиять ...» [Ремизов 2000-2003, IV, 90]. Эта традиция раздвоения личности восходит к роману Гофмана «Эликсиры дьявола», где Медардус - монах, который должен прийти к смирению, но в его душе зарождается мысль о его избранничестве, и темная сторона начинает преобладать над светлой. Он монах, но родовой грех пробуждает в его душе гордыню, чувство превосходства над другими, желание управлять их судьбами, и он совершает под ее влиянием убийства.
Безумие Кости порождает в его болезненном сознании двойника - персонажа, традиция которого восходит к Гофману. Двойник - типичный образ немецкого романтика - отражает идею расщепленного сознания современного человека. В романе «Эликсиры дьявола» у Медардуса, которого разрывают внутренние противоречия, несколько двойников: Викторин (переодевается в его монашескую одежду), Белькампо (отражает его мысли) и настоящий двойник (преследует его). В болезненном сознании Кости сильное начало материализуется в виде двойника, который такой же носатый, как и он: «... нагонял Костю, пропадал, потом опять появлялся и носатым хохочущим лицом внезапно заглядывал в глаза» [Ремизов 2000-2003, IV, 89-90]. Этот двойник уводит его в ирреальное пространство: «... подхватил Носатый под руку Костю и повлек за собой, мостя мосты в его новый дворец и храм и небеса» [Ремизов 2000-2003, IV, 90]. Он убеждает Костю, что он - Бог, Костя Саваоф, и может управлять временем: «- Костя, - дрожал Носатый, - ты Бог, ты царь над царями, ты покорил время, ты дал волю, тебе подвластны все земли, вся подлунная, весь мир» [Ремизов 2000-2003, IV, 94].
Еще одним двойником Кости является Иван Трофимович, который не может себя реализовать в любви, т.к. он «недоросток» («Маленькому и жениться нельзя, смеяться станут» [Ремизов 2000-2003, IV, 54]), он страдает от своего физического недостатка, как и Костя. Следует отметить, что в романе большинство героев имеют физические недуги или душевное расстройство. Неполноценность представителей всего семейства (Катя, старик, Костя, Рая) связана с родовой болезнью. Эта семья символизирует собой весь род человеческий, который погряз в грехах. Болезнь является символом этих грехов. Сходным образом проблема родового греха поднимается и в романе Гофмана «Эликсиры дьявола», где род художника Франческо наказан за осквернение святой Розалии. Его потомки отличаются порочностью. И только Медардусу предначертано искупить родовой грех, для этого он должен пройти путь от непорочности к греху, а затем к святости. Этот путь олицетворяет судьбу не только одного героя, но и всего рода.
Одним из ярких гофмановских приемов у Ремизова становится оду- шевление неживого и, наоборот, описание живого как неодушевленного предмета. Например, «граммофон замирал в зевоте» [Ремизов 2000-2003, IV, 14], «...печати затыкали глотку живым вещам, магазин вымирал», «... стены ожили; глазастые насквозь видели, тянули допрос» [Ремизов 2000-2003, IV, 82], «...часы ходили, такие странные и чудные: передернутые судорогой, с кислой улыбкой, обиженные, горькие, насмехающиеся» [Ремизов 2000-2003, IV, 14]. Предметы у Ремизова теряют вещную природу и становятся символами безысходности удела человеческого. Этот прием активно использовал Гофман, чтобы подчеркнуть превосходство живого мира мечты над мертвым миром людей. Так в новелле «Крошка Цахес» Гофман описывает оживший кафтан: «...рукава опять полезли кверху сборками, а полы стали расти, так что вскоре, невзирая на все оттягивания, обдергивания и пошевеливания, рукава собрались у самых плеч...» [Гофман 1999, III (1), 224].
Однако Ремизов расширяет традицию одушевления предметов до абстрактных понятий. Например, «беда и горе переступали заставу, разбредались по городу, входили в дома», «умирали слова от скорби» [Ремизов 2000-2003, IV, 31]. Безумные мысли Кости приобретают облик чудовищной пасти, оживают и начинают им управлять: «И вот гадова пасть, подмявшая под себя Костю, адски разверзшись, поглотила его, и завертелся он в холодных скользких внутренностях и вертелся, как заводная машинка» [Ремизов 2000-2003, IV, 56]. Живые люди же часто изображаются как неживые предметы, в частности, персонажи воспринимают друг друга, делая акцент на отдельных частях тела. Например, Косте все окружающие напоминают про нос, Лидочку называют «мудрая головка», а в ее облике подчеркивается сахарный носик.
Но главным абстрактным понятием, движение которого, по мнению Кости и окружающих, становится причиной всех несчастий, является время: «- Оно всегда с тобой. /- Оно идет. /- Оно не станет ждать. /- От него никуда не скроешься» [Ремизов 2000-2003, IV, 40]. Время выступает в качестве символа приближающейся расплаты за грехи и изображается как бездушный механизм, который подчиняет себе живого человека, превращая его жизнь в непрерывное движение на одном месте: «Время идет. Время не станет ждать. Ты знаешь, что такое некогда? Ведь это так, будто попал человек на страшные зубцы колеса времени или попросту на зубцы “часового колесика”. Колесико неумолимо, оно не выпустит, возьмет оно и потянет, будет тикать на самое ухо ...» [Ремизов 2000-2003, IV, 40]. Образ часов при этом выступает как материальное воплощение понятия времени. Часы окружают героев: часы на колокольне собора, часы в магазине, наручные часы у Нелидова и Кати. Нелидов восклицает: «“...по часам все построено”. - Эх, Костя, если бы часов и совсем не было!» [Ремизов 2000-2003, IV, 39].
Неудивительно, что Костя воспринимает часы как угрозу всему человечеству, которое он хочет спасти, мечтая убить время: «Ни человек, ни тварь, - часы владеют сменой и посылают дни и ночи, все от них - эта тьма
и ад, и он убьет время - проклятое! проклятое! проклятое! - убьет время, освободит себя и весь мир» [Ремизов 2000-2003, IV, 83]. В его восприятии именно часы на колокольне становятся символом зла, который воплощен в железном механизме: «Костя слышал: жили, кишели часы - тысяча тысяч бегучих годов, тысяча тысяч ядовитых червяков в этом гнилом железе. И от железного чудовища зависела целая судьба! Нет, он больше не может жить, не свергнув это железное иго, он руками задушит это железное горло» [Ремизов 2000-2003, IV, 83].
С помощью образа часов Ремизов раскрывает актуальную проблему конца XIX - начала XX в. - механизации человека и общества, которая восходит к Гофману. Немецкий писатель считал, что автоматы вытесняют все живое вокруг и пытаются завладеть человеческой душой. Живое у Гофмана теряет жизненные силы и заменяется искусственным, неживым («Песочный человек», «Выбор невесты», «Автоматы», «Принцесса Брамбилла»), Очень точно формулирует процесс механизации человеческой личности в эстетике Гофмана Н.А. Жирмунская: «...ложные идеи обретают гипнотическую власть над человеческим сознанием, парализуют волю, толкают на непредсказуемые, порою роковые поступки. Мертвый предмет, построенный на основе физических законов, “хватает” живое существо. Тем самым стирается грань между живым и неживым в окружающем мире, пограничной зоной становится психика человека с ее непознанными “безднами”, точка пересечения физических и духовных начал» [Жирмунская 2001, 394].
Ремизов, как и Гофман, видит угрозу человечеству от механизмов, которые разрушают человеческие жизни. Только символом этого механизма становятся часы. Ремизов показал высшую точку механизации человека и общества - подчинение человека времени. Костя возлагает на себя миссию освобождения всего мира от власти времени, рока, разрушая большие соборные часы: «Я даю вам волю, ... я взял себе время и убил его, - отныне нет времени! я взял себе грех и убил его, - отныне нет греха! я взял себе смерть и убил ее, - отныне нет смерти! отныне все можно! <...> Аз есмь Господь Бог твой!» [Ремизов 2000-2003, IV, 87].
Ярким стилистическим приемом у Ремизова в повести «Часы» становятся ирония и гротеск, восходящие к традиции Гофмана. Они проявляются в форме разрушительной иронии и представлены в романе в образе хохота. Как известно, Гофман в своих произведениях нередко использовал романтическую иронию и гротеск. В одних она выступает как созидательная ирония, которая помогает уйти от проблем реальной действительности, обрести себя (Урдар-озеро в новелле «Принцесса Брамбилла»), В других произведениях ирония становилась выражением безысходности и трагизма, переходя в «разрушительную иронию», которая характеризуется состоянием полного отчаяния. По мнению Д.Л. Чавчанидзе, главное отличие гофмановской иронии от иронии других романтиков в том, что страшная действительность у Гофмана неотделима от жизни человека, потому он обречен на трагизм: «Реальный мир, враждебный, игнорирован, но и идеальный по сути дела развенчан» [Чавчанидзе 1967, 348].
В эпоху Серебряного века в большей степени была востребована разрушительная ирония, т.к. она помогала выразить болезненные переживания личности, спровоцированные проблемами в обществе. По словам И.Н. Ивановой, «символистская ирония, в отличие от романтической, практически лишена радостного самоупоения <...> их ирония, как правило, жестче, беспощаднее и по своей интонации скорее сопоставима с позднеромантической (Гейне, Гофман, Лермонтов)» [Иванова 2006, 11]. У символистов смех теряет положительное значение и перерастает в сумасшедший хохот, которым невозможно управлять. Именно это становится художественным приемом многих символистов и отражает порочность и безумие окружающего мира, где личность утрачивает свою цельность, превращаясь в куклу.
Приступы безумия у героев и Гофмана, и Ремизова связаны с образом смеха, хохота. В романе Ремизова герои, охваченные внешними и внутренними проблемами, от отчаянья впадают в истерический смех: «Прыскали от хохота слезы, рассекались хохотом» [Ремизов 2000-2003, IV, 8]. Или: «... хохотал Костя во все горло безумным диким хохотом» [Ремизов 2000-2003, IV, 94]. Хохот расширяет пространство, уводит героев от реального времени. Не случайно образ колокола также начинает хохотать, когда часы бьют не девять, а десять ударов: «И хохотало - звенело, ужасалось, плакало, кричало от нетерпения в этом и в том и в десятом сердце» [Ремизов 2000-2003, IV, 12].
Мир, который создает Ремизов в своем произведении, погружен в мрак, хаос, отчаяние. Однако, по словам, А. Ростопчиной в романе прослеживается яркая оппозиция: мир хаоса - мир гармонии: «Единственное, что гармонизирует изображенный Ремизовым мир, противостоит мраку, сдерживает хаос - это красота природы, творение рук Божьих, и красота самой литературной формы, словесной ткани - творение художника» [Ростопчина]. Четкое построение романа, его музыкальность и образность превращают его в идеальное произведение искусства, изящное и красивое по своей форме. Эта традиция восходит к идее синтеза искусств, которая в произведениях Гофмана выражается в попытке соединить в единое целое слово, ритм и звук. Так, например, создавая роман «Эликсиры дьявола», он продумывает ритм произведения, опираясь на музыкальные темпы: «роман начинается Grave sostenuto. Герой появляется на свет в монастыре святой Липы Восточной Пруссии <...> потом вступает sestet piano - жизнь в монастыре, где он был подстрижен, - из монастыря герой вступает в ярко-разноцветный мир - здесь начинается Allegro forte» [Гюнцель 1987, 221-222].
В эпоху Серебряного века эта идея становится особенно популярной, и многие писатели (А. Белый, А. Блок, В. Брюсов и др.) стремятся привнести в свои произведения музыкальное начало. Не исключением был и Ремизов, который выстраивает свой роман «Часы» как музыкальное произведение, о чем пишет А. Ростопчина: «музыкальная композиция из ше-
сти частей использует повторы и лейтмотивы, что также служит для связи различных частей, тогда как каденция ближе к концу повести выполняет роль переигровки. Концовки частей исполнены в контрастных стилях экспрессионизма или стилизации и стоят в контрапункте друг к другу Стилизованные куски никак не связаны с сюжетом, они выполняют функции самостоятельных отрывков, используемых скорее для чисто стилистического контраста» [Ростопчина].
Таким образом, «гофмановский комплекс» не только находит яркое воплощение в романе Ремизова «Часы», но и отражает общую тенденцию в русском символизме - использование его как художественного приема: В. Брюсов («Бемоль», «В зеркале» и др.), А. Белый («Рассказ № 2», роман «Петербург»), Л. Андреев («Мысль»), А. Блок («Незнакомка», «Балаганчик») и др. Выделение и анализ «гофмановского комплекса» в произведениях русских символистов позволяет проследить закономерности развития и трансформации «гофмановского текста русской литературы» на рубеже веков.
Список литературы "Гофмановский комплекс" в романе А. Ремизова "Часы"
- Ботникова А.Б. Э.Т.А. Гофман и русская литература. Воронеж: Изд-во Воронежского государственного университета, 1977. 206 с.
- Гофман Э.Т.А. Собрание сочинений: в 6 т. М.: Воронежский институт, 1991.
- Гюнцель К. Э.Т.А. Гофман. Жизнь и творчество. Письма, высказывания и документы. М.: Радуга, 1987. 465 с.
- Жирмунская Н.А. От барокко к романтизму: статьи о французской и немецкой литературах. СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2001. 464 с.
- Иванова И.Н. Типология и эволюция иронии в поэзии русского модернизма (1890-1910). Ставрополь: Изд-во Ставропольского государственного университета, 2006. 422 с.
- Игнатов С.С. Погорельский и Гофман // Русский филологический вестник. 1914. Т. 72. № 3-4. С. 249-278.
- Израилевич Л. К вопросу о влиянии Гофмана на Гоголя // Ученые записки Ленинградского университета. 1939. № 33. Вып. 2. С. 94-127.
- Ильин И.А. О тьме и просветлении. Книга художественной критики. Бунин-Ремизов-Шмелев. Мюнхен: Тип. Обители преп. Иова Почаевского, 1959. 196 с.
- Королева В.В. «Гофмановский комплекс» в русской литературе конца XIX - начала ХХ веков. Владимир: Шерлок-пресс, 2020. 306 с.
- Кузмин М. Дневник 1908-1915 годов. СПб.: Издательство Ивана Лимба-ха, 2005. 865 с.
- Морозов П. Э.Т.А. Гофман в России // Гофман Э.Т.А. Избранные сочинения. М.; Пг.: Госиздат, 1923. Т. 1. С. 39-50.
- Ремизов А.М. Собрание сочинений. М.: Русская книга, 2000-2003, 2011.
- Ростопчина А. Повтор как структурообразующий принцип в романе «Часы». https://pandia.ru/text/77/462/4988.php (дата обращения 20.02.2021).
- Слобин Г.Н. Проза Ремизова 1900-1921. СПб.: Академический проект, 1997. 203 с.
- Топоров В.Н. Ахматова и Гофман: к постановке вопроса // Топоров В.Н. Петербургский текст русской литературы. СПб.: Искусство, 2003. 614 с.
- Филиппов Б. Заметки об Алексее Ремизове (Читая «Взвихренную Русь») // Русский альманах. Париж: б.и., 1981. С. 222-230.
- Чавчанидзе Д.Л. «Романтическая ирония» в творчестве Гофмана // Ученые записки Московского государственного педагогического института им. В.И. Ленина. 1967. Вып. 280. С. 340-355.
- Чулков Г. Современники. (Годы странствий). М.: Эллис Лак, 1999. 861 с.