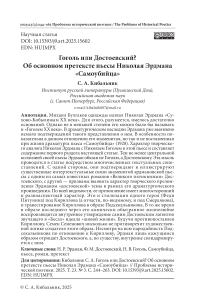Гоголь или Достоевский? Об основном претексте пьесы Николая Эрдмана «Самоубийца»
Автор: Кибальник С.А.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 3 т.23, 2025 года.
Бесплатный доступ
Михаил Булгаков однажды назвал Николая Эрдмана «Сухово-Кобылиным XX века». Для этого, разумеется, имелось достаточно оснований. Однако не в меньшей степени его можно было бы называть и «Гоголем XX века». В драматургическом наследии Эрдмана уже выявлено немало подтверждений такого представления о нем. В особенности по казательна в данном отношении его знаменитая, но так и не поставленная при жизни драматурга пьеса «Самоубийца» (1928). Характер творческого диалога Николая Эрдмана с Николаем Гоголем в этой пьесе и составляет содержание первого раздела настоящей статьи. Тем не менее централь ной коллизией своей пьесы Эрдман обязан не Гоголю, а Достоевскому. Эта мысль проводится в статье посредством многочисленных текстуальных сопо ставлений. С одной стороны, они подтверждают и иллюстрируют существенные интертекстуальные связи знаменитой эрдмановской пьесы с одним из самых известных романов «Великого пятикнижия» Достоевского, с другой — призваны выявить характер творческого преломления Эрдманом «достоевской» темы в рамках его драматургического произведения. По всей видимости, ее преломление имеет многосторонний и разноаспектный характер. Это и стилизация одного героя (Феди Питунина) под Кириллова (а отчасти, по-видимому, и под Смердякова), и травестирование Кириллова в образе Подсекальникова. В то же время в образе последнего через его комически обыгранное жизнелюбие воспроизводится внутреннее утверждение самим Достоевским латентно звучащего в «Бесах» идеала «живой жизни». Будучи противопоставлен Кириллову, Семен Семенович нисколько не противоречит художественной логике создателя этого образа. Несмотря на всю пародийность Подсекальникова по отношению к Кириллову, Эрдман лишь кажущимся образом отрицает Достоевского, а, по существу, внутренне солидаризируется с ним.
Н. Р. Эрдман, Ф. М. Достоевский, Н. В. Гоголь, Самоубийца, пьеса, роман, претекст
Короткий адрес: https://sciup.org/147251696
IDR: 147251696 | DOI: 10.15393/j9.art.2025.15602
Текст научной статьи Гоголь или Достоевский? Об основном претексте пьесы Николая Эрдмана «Самоубийца»
Д руг Николая Эрдмана Михаил Булгаков однажды назвал его «Сухово-Кобылиным XX века». Для этого, разумеется, имелось достаточно оснований. Однако не в меньшей степени его можно было бы назвать и «Гоголем XX века». В драматургическом наследии Эрдмана ощущается немало подтверждений такого представления о нем.
Постановщик его первой пьесы «Мандат» (1925) Вс. Э. Мейерхольд утверждал, что «основная линия русской драматургии — Гоголь, Сухово-Кобылин — найдет свое блестящее продолжение в творчестве Николая Эрдмана» [Мейерхольд: 65]. Впрочем, определяющим в этой пьесе представляется скорее влияние европейского комического театра, и в первую очередь Шекспира и Мольера.
Гораздо в большей степени опора на Гоголя ощущается в третьей, так и ненаписанной пьесе Эрдмана «Гипнотизер». Если судить по сохранившимся отрывкам, то она представляла собой яркую сатиру на советскую бюрократию. Недаром же и начиналась она со слов заведующего клубом: «Я пригласил вас, товарищи, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятнейшее известие: К нам приехал гипнотизер» (цит. по: [Хорт: 314]). По-видимому, в каком-то самом облегченном виде этот замысел преломился в написанном Эрдманом в соавторстве с Михаилом Вольпиным сценарии известного фильма Григория Александрова «Волга-Волга» (фигура товарища Бывалова в исполнении Игоря Ильинского).
Показательна в данном отношении и вторая пьеса Эрдмана — знаменитый, но так и не поставленный при его жизни «Самоубийца» (1928).
Прежде всего сама расстановка главных героев этой пьесы несколько напоминает гоголевскую «Женитьбу». У Гоголя в центре пьесы — невеста Агафья Тихоновна и ее тетка Арина Пантелеймоновна, жених Подколесин и «друг» его Кочкарев, а в «Самоубийце» — это жена Подсекальникова Мария Лукьяновна, мать ее Серафима Ильинична, сам Подсекаль-ников и его сосед Калабушкин.
При этом пары героинь у обоих драматургов отличаются таким простодушием и невежеством, что это делает их роли скорее комическими. Пары же мужских персонажей схожи фамилиями (особенно главные герои Подсекальников и Под-колесин), а их визави: Калабушкин и Кочкарев — скорее мнимые, чем подлинные их благожелатели (впрочем, Калабушкин вначале искренне волнуется за Подсекальникова и пытается помешать его самоубийству, но скоро примиряется с этим его намерением и даже пытается нажиться на нем).
Пьеса Эрдмана вообще может восприниматься отчасти как своеобразный «сиквел» гоголевской «Женитьбы», ведь в ней происходят события, которые могли бы происходить после женитьбы Подколесина на Агафье Тихоновне (в том случае если бы он не сбежал из ее дома). В то же время это и модернизация, своего рода советский ремейк «Женитьбы» — ее герои живут теперь в коммунальной квартире, и, разумеется, творческое преломление темы, так что в ее освещении множество серьезных отличий: Подколесин — «служащий надворный советник» [Гоголь; т. 5: 7], а Подсекальников — просто безработный и т. д. и т. п.
Гоголевский план так явно проглядывает сквозь пьесу Эрдмана, что сам автор, конечно же, не случайно делает любимым напитком Подсекальникова «гоголь-моголь», и эта деталь в пьесе неоднократно повторяется, причем иногда даже более прозрачно — как, например, в реплике Марьи Лукьяновны:
«До чего он любитель до гоголя , страсть»1 (здесь и далее полужирным выделено мной. — С. К .).
Кроме того, на страницах «Самоубийцы» то и дело траве-стируются центральные мотивы гоголевских «Мертвых душ». Так, когда писатель Виктор Викторович на банкете импровизирует на тему знаменитого лирического отступления о «птице-тройке»:
«Я хочу, чтобы лопались струны гитар, чтобы плакал ямщик в домотканую варежку <…>, а потом опрокинуть холодную стопочку да присвистнуть, да ухнуть на всю вселенную и лететь… да по-нашему, да по-русскому, чтоб душа вырывалась к чертовой матери, чтоб вертелась земля, как волчок, под полозьями, чтобы лошади птицей, над полем распластывались. Эх, вы лошади, лошади, — что за лошади! И вот тройка не тройка уже, а Русь, и несетcя она, вдохновенная Богом. Русь, куда же несешься ты? Дай ответ», — курьер Егорушка отвечает ему:
«Прямо в милицию, будьте уверены».
На недоуменный вопрос Виктора Викторовича: «Как в милицию? Почему» — он резонно возражает: «Потому что так ездить не полагается. Ездить можно согласно постановлению не быстрее пятидесяти верст в час» ( Эрдман : 127).
А в четвертом действии Аристарх Доминикович говорит Марии Лукьяновне:
«Муж ваш умер, но труп его полон жизни, он живет среди нас, как общественный факт» ( Эрдман : 137).
И это несколько напоминает реплику члена цензурного комитета, заявившего на заседании по поводу «Мертвых душ»:
«…душа бывает бессмертна, мертвой души не может быть…» (цит. по: [Гоголь; т. 6: 890]).
Однако центральной коллизией своей пьесы Эрдман обязан не Гоголю, а Достоевскому. Ведь сюжет «Самоубийцы» построен на желании множества разных людей использовать самоубийство Подсекальникова, которое он якобы готов совершить, в своих собственных целях. Все они наперебой уговаривают его, чтобы в предсмертной записке он объявил причиной своего самоубийства то, что выгодно им.
Конечно же, это шаржированное изображение договора между Петром Верховенским и Кирилловым о том, что в предсмертной записке последний возьмет на себя что-то из того, что в действительности будет сделано тайным кружком местных заговорщиков. Этот «идущий от Достоевского мотив чьего-то самоубийства, используемого другими в своекорыстных политических целях», кажется, впервые бегло отметил в пьесе Эрдмана Ю. К. Щеглов (см.: [Щеглов: 361]).
Кириллов у Достоевского намерен совершить самоубийство потому, что считает это единственным способом человека заявить «своеволие» и тем самым доказать, что вся власть его и, следовательно, он Бог. Верховенский со своими клевретами накануне убивает Шатова и предлагает Кириллову взять это убийство на себя. Симпатизировавший Шатову Кириллов вначале отказывается, но для него главное реализовать свою маниакальную идею, а все остальное неважно. Вот почему он все же пишет записку под диктовку Верховенского, а затем и в самом деле застреливается.
По сравнению с романом Достоевского у Эрдмана, на первый взгляд, все не так. Подсекальников на самом деле и не собирается стреляться, а лишь, живя на иждивении у жены, то и дело угрожает ей тем, что сделает это. Вот откуда берутся слухи о его намерении, а дальше уже все кому не лень предлагают ему разные варианты предсмертной записки, один из которых он в конце концов переписывает на банкете, устроенном в его честь с условием, что сразу после него он застрелится. В конце концов герой не кончает жизнь самоубийством, а лишь имитирует его. Одним словом, у Эрдмана мы находим комическое обыгрывание этого сюжета, в котором трагическую историю Кириллова узнать непросто. Тем не менее это не случайное совпадение, а все же пародия на знаменитый роман Достоевского. Во всяком случае для того, чтобы так думать, есть целый ряд оснований.
Во-первых, история самоубийства Кириллова хотя и вполне трагична, но сопровождается в «Бесах» целым рядом деталей, которые содержат в себе комический потенциал. Точно так же как Подсекальников, Кириллов вначале откладывает свое самоубийство — правда, не просто так, а до того момента, который будет выгоден заговорщикам. Затем, уже в присутствии Верховенского, он, также как и герой «Мандата» после банкета, тянет с выстрелом, очевидно, до самого конца испытывая мучительные колебания. Наконец, он все же застреливается, но до этого, раздраженный тем, что Верховенский торопит его, больно кусает того за палец. Так что трагическая история героя, пытающегося утвердить себя как «человекобога», заканчивается у Достоевского достаточно неоднозначно. Снижающий характер всех этих деталей, по всей видимости, выражает критическое отношение Достоевского к Кириллову как к доброму от природы человеку, который, увы, добровольно расстается с жизнью по причинам чисто рассудочного характера.
Во-вторых, этот последний мотив имеет место также и в пьесе Эрдмана — только проявляется он в образе не Подсекаль-никова, а другого, внесценического персонажа. Как отметил Ю. К. Щеглов, «еще одну характерную тему Достоевского — власть усвоенной извне мечты или абстрактной идеи над молодым, не имеющим твердой почвы сознанием, способность идеи полностью подчинить себе и даже убить человека » — воспроизводит «проходящая через всю пьесу линия невидимого комсомольца Феди Питунина, который взаправду кончает жизнь самоубийством в финале» [Щеглов: 361] 2 .
В-третьих, для подобного комического травестирования самоубийства Кириллова было достаточно импульсов в самих «Бесах». Ведь свою идею «человекобожества» Кириллов не высказывает даже в предсмертной записке — вместо этого он берет в ней убийство Шатова на себя, а также воспроизводит лозунги Великой Французской революции. Откуда же тогда люди узнают его собственную идею? Согласие Кириллова изложить причины своего самоубийства в предсмертной записке совсем иным образом, выгодным другим людям, а также то, что, прежде чем застрелиться, он больно кусает Верховенского за палец, — все это действительно содержало в себе комический потенциал.
Наконец, в-четвертых, в тексте эрдмановской пьесы есть несомненные скрытые отсылки к сюжетной линии Кириллова в «Бесах». Переписав заблаговременно составленную за него предсмертную записку, в которой он призывает дать «волю интеллигенции», Подсекальников заявляет:
«Захочу вот — пойду на любое собрание, на любое, заметьте себе, товарищи, и могу председателю… язык показать » ( Эрдман : 133).
Более того, он собирается позвонить в Кремль:
«Позвоню… и кого-нибудь там… изругаю по-матерному. Что вы скажете? А?».
Подсекальников просит «позвать кого-нибудь самого главного». И говорит:
«…передайте ему от меня, что я Маркса прочел и мне Маркс не понравился. Цыц! Не перебивайте меня. И потом передайте ему еще, что я их посылаю …» ( Эрдман : 134).
Все это весьма напоминает Кириллова, который сначала хотел нарисовать «сверху рожу с высунутым языком », а затем, согласившись на предложение Верховенского «все это выразить одним тоном», все же настаивает:
« Я хочу изругать » [Достоевский, 1974; т. 10: 472].
Кириллов перед смертью провозглашает лозунги Французской революции, а Подсекальников позволяет себе объявить о своем нерасположении к идеям К. Маркса. Однако если в своих идеологических устремлениях эти два героя прямо противоположны по отношению друг к другу, то в стремлении во что бы то ни стало «изругать» и «показать язык» Подсе-кальников буквально воспроизводит отдельные фразы Кириллова.
Впрочем, эти реминисценции только подчеркивают тра-вестийное развитие в образе Подсекальникова кирилловского мотива. Ведь все остальное в его поведении скорее противоположно Кириллову. Так, у Достоевского опасение, что, в последний раз объясняя ему свою идею, Кириллов может затянуть с самоубийством, высказывает Верховенский:
«Только надо иметь в виду время… <…> Ого, ровно два» [Достоевский, 1974; т. 10: 468].
В пьесе Эрдмана же о времени то и дело спрашивает Подсе-кальников, которому очень не хочется умирать:
«Как… Уже половина двенадцатого?» ( Эрдман : 127).
Записывая то, что ему диктует Верховенский, Кириллов впадает в восторг и от избытка энтузиазма кое-что прибавляет от себя:
«— Подпишите: Vive la république, и довольно. — Браво! — почти заревел от восторга Кириллов. — Vive la république démocratique, sociale et universelle ou la mort!.. Нет, нет, не так. — Liberté, égalité, fraternité ou la mort! Вот это лучше, это лучше, — написал он с наслаждением под подписью своего имени. — Довольно, довольно, — всё повторял Петр Степанович. — Стой, еще немножко… Я, знаешь, подпишу еще раз по-французски: “de Kiriloff, gentilhomme russe et citoyen du monde”3. Ха-ха-ха! — залился он хохотом. — Нет, нет, нет, стой, нашел всего лучше, эврика: gentilhomme-séminariste russe et citoyen du monde civi-lisé!4 — вот что лучше всяких…» [Достоевский, 1974; т. 10: 473].
Герой же «Мандата» полон спокойного восхищения текстом своей предсмертной записки, который он просто умиротворенно переписывает:
«"Люди и члены партии, посмотрите в глаза истории". Как написано! А! "Посмотрите в глаза истории"» ( Эрдман : 132).
Зато если Кириллов, дописав, «вдруг быстрым жестом схватил с окна револьвер, выбежал с ним в другую комнату и плотно притворил за собою дверь» [Достоевский, 1974; т. 10: 473], то Подсекальников как раз после этого и произносит свои речи о том, что он теперь может сделать все, что угодно, так как «все равно умирать» ( Эрдман : 133). А когда пробивает назначенный час, прежде чем выйти, берет со стола бутылку вина «для храбрости» ( Эрдман : 135).
Травестийность поведения Подсекальникова по отношению к Кириллову находит у Эрдмана свое развитие и во всех последующих сценах. В отличие от Алексея Нилыча, Семен
Семенович никого не кусает за палец, но зато и не собирается стреляться. Вместо этого он напивается пьян, его приносят домой без сознания. А когда он приходит в себя, то, поскольку приготовления к его похоронам в полном разгаре и в комнате у него уже стоит гроб, ложится в него и остается в нем во время отпевания и надгробных речей.
При этом, когда герой Эрдмана все же делал попытку «поправить дело» и застрелиться у себя дома, вместо ужасной сцены с укусом пальца торжествовала естественная нерешительность героя, любящего жизнь:
«Черт возьми, как хорошо — тромбон. Трамвай начинает идти. ( Приближает вытянутую руку с револьвером к виску .) Сколько прелести в… ( Останавливает руку ). Сколько прелести… Нет, не могу. Сколько пре… Не могу. Черт возьми, как хорошо — тромбон… Черт во… Тьфу ты, черт! Ну, никак не могу!» ( Эрдман : 145).
Так что сюжетная линия Подсекальникова в целом по отношению к сюжетной линии Кириллова оказывается открыто пародийной.
Однако в финале сюжет «Самоубийцы» делает еще один зигзаг и развивается уже в серьезном ключе. Ведь после комического «воскрешения» Подсекальникова другой, вне-сценический персонаж пьесы, которому было известно его намерение, — Федя Питунин — все же кончает с собой и оставляет записку, которую цитирует Аристарху Доминиковичу писатель Виктор Викторович:
«"Подсекальников прав. Действительно жить не стоит"» ( Эрдман : 164).
Попытаемся разобраться теперь с вопросом о характере претворения Эрдманом кирилловской темы в «Самоубийце». Для этого необходимо вначале осветить то, как относился к Кириллову сам Достоевский.
Нет никакого сомнения в том, что образ Кириллова согрет глубоким авторским сочувствием. Во-первых, в нем бросаются в глаза существенные автобиографические моменты (см.: [Нечаева: 18], [Достоевский. Бесы: 572–574], [Евлампиев: 486–487]). Во-вторых, с самого начала, даже во внешности Кириллова, отчетливо проступают привлекательные черты:
«— Как? Как это вы сказали… ах черт! — воскликнул пораженный Кириллов и вдруг рассмеялся самым веселым и ясным смехом. На мгновение лицо его приняло самое детское выражение и, мне показалось, очень к нему идущее» [Достоевский, 1974; т. 10: 78].
Не случайно, отталкиваясь от «первоначального замысла» Достоевского «продолжить в новом произведении тему земного Христа», И. И. Евлампиев находит в Кириллове «большое число черт, которые делают его подобным Мышкину»: «Он постоянно настроен на помощь людям и готов по мере сил служить их интересам. Он всегда говорит правду и болезненно переносит фальшь, лицемерие и ложь. Несколько раз говорится о его детской улыбке и его способности краснеть при упоминании болезненных или дорогих для него воспоминаний. Кириллова любят дети, в отношениях с ними он легко добивается доверия и взаимопонимания. Наконец, как и Мышкин, Кириллов обладает необычной проницательностью, он угадывает мысли и чувства своих собеседников и легко добивается их расположения. Даже постоянно звучащее ироничное обозначение Кириллова «сумасшедшим» сближает его с «идиотом» Мышкиным. Он действительно, постоянно выходит за рамки привычных, стандартных форм общения — наоборот, он глубже других видит настроение и желания других и пытается реализовать предельно индивидуальное, живое общение, не ограниченное рамками общепринятых правил и стандартов» [Евлампиев: 467–468].
Действительно, в основном герой «Бесов» показан в романе с самой привлекательной стороны. Так, Кириллов не остается равнодушным к тому, какой вред Ставрогин наносит психике Марьи Лебядкиной своим обращением с ней. По словам Верховенского-младшего, «Кириллов <…> тут вдруг разгорячился, заметил, я помню, Николаю Всеволодовичу, что тот третирует эту госпожу как маркизу и тем окончательно ее добивает» [Достоевский, 1974; т. 10: 149–150]. Между тем с самого начала Ставрогин, по наблюдениям повествователя, «несколько уважал этого Кириллова» [Достоевский, 1974; т. 10: 150]. Не случайно именно ему он предложил быть его секундантом в дуэли с Гагановым. И Кириллов вел себя в ходе нее безукоризненно:
«Зато Кириллов был совершенно спокоен и безразличен, очень точен в подробностях принятой на себя обязанности, но без малейшей суетливости и почти без любопытства к роковому и столь близкому исходу дела» [Достоевский, 1974; т. 10: 223].
Прибыв на дуэль, как и Ставрогин, верхом, «Кириллов, никогда не садившийся на коня», неожиданным образом даже в седле держится «смело и прямо, прихватывая правою рукой тяжелый ящик с пистолетами, который не хотел доверить слуге, а левою, по неуменью, беспрерывно крутя и дергая поводья, отчего лошадь мотала головой и обнаруживала желание стать на дыбы, что, впрочем, нисколько не пугало всадника» [Достоевский, 1974; т. 10: 223].
В результате этой дуэли он избавляется от своего былого поклонения Ставрогину и даже осознает некоторое свое превосходство над ним:
«Если мне легко бремя, потому что от природы, то, может быть, вам труднее бремя, потому что такая природа. Очень нечего стыдиться, а только немного» [Достоевский, 1974; т. 10: 228].
Так что это даже ощущает и сам Ставрогин:
«Я знаю, что я ничтожный характер, но я не лезу и в сильные» [Достоевский, 1974; т. 10: 228].
Когда к Шатову приезжает жена, Кириллов так самоотверженно помогает ему во всем, что тот говорит ему:
«Если б… если б вы могли отказаться от ваших ужасных фантазий и бросить ваш атеистический бред… о, какой бы вы были человек, Кириллов !» [Достоевский, 1974; т. 10: 436].
Наконец, Достоевский сам довольно апологетическим образом истолковывал образ Кириллова в подготовительных материалах к роману:
«В Кириллове народная идея — сейчас же жертвовать собою для правды. <…> О том, кто здоров и кто сумасшедший. Ответ критикам. Предрешить заранее. Таков Кириллов, русский идеалист. Чутье-то верное (вроде Белинского: сначала решим о Боге, а уж потом пообедаем)» [Достоевский, 1974; т. 11: 303, 308].
Так что вывод исследователя: «Достоевский вполне серьезно и позитивно оценивал образ Кириллова» [Евлампиев: 486] — можно было бы даже усилить: Достоевский весьма симпатизирует этому своему герою.
Однако Кириллов в романе проявляет себя еще и по-другому и вызывает со стороны некоторых его героев совсем иные оценки. Так, возражая повествователю, принимающему Кириллова за сумасшедшего, Степан Трофимович Верховенский, который временами оказывается в романе рупором авторских оценок, говорит о Кириллове:
«Он не сумасшедший, но это люди с коротенькими мыслями <…> — Ces gens-là supposent la nature et la société humaine autres que Dieu ne les a faites et qu’elles ne sont réelement5» [Достоевский, 1974; т. 10: 99].
Затем Шатов, отзываясь на реплику повествователя об атеизме Кириллова, дважды называет таких, как он, «людьми из бумажки» [Достоевский, 1974; т. 10: 110, 112]. Более того, упрекая в дальнейшем Ставрогина за то, что он заразил Кириллова своей идеей человекобожества, Шатов прямо говорит о Кириллове как о «маньяке»:
«…вы отравили сердце этого несчастного, этого маньяка, Кириллова, ядом… Вы утверждали в нем ложь и клевету и довели разум его до исступления… Подите взгляните на него теперь, это ваше создание…» [Достоевский, 1974; т. 10: 197].
Наконец, Петр Верховенский, пусть даже и желая поддразнить Кириллова, но все же говорит ему: «Знаю тоже, что не вы съели идею, а вас съела идея, стало быть, и не отложите». Причем сам Кириллов отчасти признает небезосновательность такого диагноза:
«Это хорошо. У вас есть маленький ум» [Достоевский, 1974; т. 10: 427].
Все эти снижающие героя характеристики, как в зеркале, отразились в эпизоде самоубийства Кириллова. Узнав об убийстве Шатова Верховенским, он вначале возмущен, отказывается взять на себя это убийство и даже готов застрелить самого Верховенского. Однако потом, будучи «как в горячке» и «как в лихорадке» [Достоевский, 1974; т. 10: 472], исполняет все, что тому нужно. При этом, несмотря на то, что ему, как он сам признается, «жаль Шатова» [Достоевский, 1974; т. 10: 468], он исходит из своего универсального равнодушия к тому, что происходит в этом ложно, по его мнению, устроенном мире, и из презрения к мнению других людей:
«Диктуй, пока мне смешно. Не боюсь мыслей высокомерных рабов!» [Достоевский, 1974; т. 10: 472].
Между прочим, равнодушие, из которого он исходит: «Я определил в эту ночь, что мне все равно » — парадоксальным образом роднит его со Ставрогиным, а из героев других произведений Достоевского — со «смешным человеком», которого оно также приведет к идее самоубийства: «Но мне стало все равно , и вопросы все удалились» [Достоевский, 1984; т. 25: 105]. «Все равно» — вообще самая частотная реплика Кириллова [Достоевский, 1974; т. 10: 291, 292, 466]. Именно вследствие этого, отчасти напускного в его случае, равнодушия и поглощенности своей идеей, Кириллов, прекрасно сознавая, на что он идет, становится послушным инструментом в руках негодяя и политического проходимца.
Как представляется, именно это обстоятельство воплощено во второй главе третьей части романа в том, что, несмотря на старания Кириллова придать, так сказать, «благообразие» своему самоубийству, оно получается отнюдь не «благообразным», а сопровождается целым рядом снижающих его деталей. Так, Верховенский-младший не только не оставляет его в решающий момент наедине, но и проявляет досадное нетерпение. Не слыша в течение некоторого времени выстрела, он следует за Кирилловым, вышедшим для этого в соседнюю комнату:
«…он вдруг отпер дверь и приподнял свечу: что-то заревело и бросилось к нему » [Достоевский, 1974; т. 10: 474].
Через некоторое время Верховенский все же входит в эту комнату и не без труда обнаруживает Кириллова «в углу, образованном стеною и шкафом»:
«Тут пришла ему мысль поднести огонь прямо к лицу "этого мерзавца", поджечь и посмотреть, что тот сделает. Вдруг ему почудилось, что подбородок Кириллова шевельнулся и на губах как бы скользнула насмешливая улыбка — точно тот угадал его мысль. <…> Затем произошло нечто до того безобразное и быстрое , что Петр Степанович никак не мог потом уладить свои воспоминания в каком-нибудь порядке. Едва он дотронулся до Кириллова, как тот быстро нагнул голову и головой же выбил из рук его свечку ; подсвечник полетел со звоном на пол, и свеча потухла. В то же мгновение он почувствовал ужасную боль в мизинце своей левой руки . Он закричал, и ему припомнилось только то, что он вне себя три раза изо всей силы ударил револьвером по голове припавшего к нему и укусившего ему палец Кириллова » [Достоевский, 1974; т. 10: 475–476].
Даже после всех этих гротескных деталей Кириллов все же совершает самоубийство. Так что в художественном мире Достоевского он не просто оказывается в одном ряду с такими «логическими самоубийцами», как Ипполит Терентьев, Крафт, герой очерка «Дневника писателя» «Приговор», и иллюстрирует важнейшую для писателя мысль о губительности идеологии, когда она берет верх над ощущением «живой жизни». В отличие от них, к его трагическому облику примешивается еще что-то нелепое и кошмарное.
Это тем более очевидно, что Кириллов, как показал В. В. Виноградов, в этом эпизоде «разыгрывает роль Старухи»
из кошмара героя романа Виктора Гюго «Последний день приговоренного к смерти», причем Достоевский придает «движениям, которыми обмениваются два действующих лица, характер причудливого гротеска» [Виноградов: 149]. По-видимому, именно этот «причудливый гротеск» и стал бессознательным импульсом к тому комическому развитию темы, которое мы находим у Эрдмана.
В пьесе Эрдмана Кириллову соответствует не только Подсекальников, но и Питунин. В «Самоубийце» этот герой Достоевского как бы раздвоился: на его комическую и трагическую ипостаси. При этом, по всей видимости, здесь преломился другой трагический мотив Достоевского — мотив «Братьев Карамазовых»: о заразительности и опасности атеистических идей. Пара Подсекальников/Питунин в этом отношении представляет собой трагикомическое производное от пары Иван Карамазов/Смердяков. Комсомолец Федя Питунин оказывается в этой комбинации представителем простого, незащищенного сознания 6 , каким в «Братьях Карамазовых» был незаконнорожденный брат Ивана Смердяков, а Под-секальников — травестийным вариантом Ивана.
В отличие от романа Достоевского, в пьесе Эрдмана заражение Феди Питунина идеей самоубийства производится вполне целенаправленно — только не Подсекальниковым, а писателем Виктором Викторовичем. Не случайно тот еще в конце второго действия отзывается о Питунине так:
«Замечательный тип. Положительный тип. Но с какой-то такой грустнотцой, товарищи. Нужно будет в него червячка заронить » ( Эрдман : 120).
Кстати, комическая разработка кирилловского мотива отчасти намечена уже у самого Достоевского — в образе Федора Павловича из «Братьев Карамазовых». Ведь когда, отвечая на его вопрос, Иван говорит, что Бога нет, Федор Павлович тут же перево дит эту проблематику в травестийный план:
«Кто же смеется над людьми <…>? <…> Черт возьми, что б я после того сделал с тем, кто первый выдумал Бога ! Повесить его мало на горькой осине» [Достоевский, 1976; т. 14: 124]7.
Не случайно Подсекальников в этом отношении напоминает как раз не Кириллова, а Федора Павловича Карамазова:
«Вот скажите вы мне, дорогие товарищи, можете ли вы понимать суть, и если вы можете ее понимать, то скажите вы мне, дорогие товарищи, есть загробная жизнь или нет ?» ( Эрдман : 130–131).
Ср. настойчивые вопрошания в адрес Ивана и Алеши их отца:
«Иван, говори: есть Бог или нет ? <…> Алешка, есть Бог ? <…> Алешка, есть бессмертие ? <…> А черт есть?» [Достоевский, 1976; т. 14: 123–124].
В ответ на свой вопрос Подсекальников получает неоднозначный и неутешительный ответ от отца Елпидия:
«По религии — есть. По науке — нету. А по совести — никому не известно» ( Эрдман : 131).
Аналогичным образом если Алеша в «Братьях Карамазовых» подтверждает существование и Бога, и бессмертия, то Иван, отрицая их всех, не делает исключения даже для черта (см.: [Достоевский, 1976; т. 14: 124]).
Так, если в образе Феди Питунина имеет место своего рода упрощенная стилизация под Кириллова, то в образе главного героя пьесы Эрдмана представлен своего рода комический антипод этого героя Достоевского. При этом, будучи, на первый взгляд, всего лишь простой пародией на Кириллова, Под-секальников, при более внимательном рассмотрении, оказывается полемической интерпретацией этого образа, ведь он наследует от своего литературного прототипа его жизнелюбие, но не несет в себе ничего от его мрачного фанатизма. Недаром в ответ на всеобщее негодование окружающих по поводу того, что Подсекальников так и не застрелился, в свою защиту он обезоруживающим образом предлагает вместо него сделать это любому из присутствующих:
«Вот револьвер, пожалуйста, одолжайтесь» (Эрдман: 163) — и тем самым оказывается гораздо ближе к внутреннему идеалу «живой жизни», проходящему через все творчество Достоевского [Достоевский, 1973, т. 5: 176, 178; 1976, т. 13: 178], чем к своему литературному прототипу в «Бесах». Что же касается гоголевской комической стихии пьесы, то она, судя по всему, только поддерживает эту внутреннюю солидарность эрдма-новского героя не столько с Кирилловым, сколько с его творцом Достоевским.
Так что гипертекстуальность «Самоубийцы» по отношению к сюжетной линии Кириллова в «Бесах» оказывается совсем не простой и не однозначной. С одной стороны, у Эрдмана наличествует своего рода упрощенная стилизация Феди Питу-нина под Кириллова, с другой — имеет место комическое пародирование Кириллова в образе Подсекальникова. С третьей же стороны, в этом последнем образе варьируется внутреннее утверждение Достоевским латентно звучащего в «Бесах» идеала «живой жизни».
В качестве отдаленного аналога такой трансформации претекста можно вспомнить «конструктивное пародирование» Чеховым Г. Флобера, о котором писал Р. Г. Назиров. Причем, по Назирову, подобного рода пародии есть «проявление любви» [Назиров: 168], то есть это акт не отрицания, а утверждения. Поэтому, несмотря на всю пародийность Подсекальникова по отношению к Кириллову, Эрдман лишь кажущимся образом отрицает Достоевского, а по существу, внутренне солидаризируется с ним. И следовательно, эрдмановский «балаган» в «Самоубийце» оказывается не столько «конструктивистким», сколько «конструктивным» 8 .