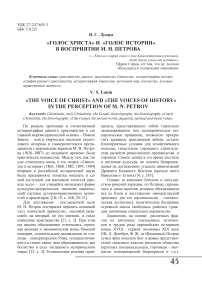«Голос Христа» и «голос истории» в восприятии М. Н. Петрова
Автор: Лунин Валерий Семенович
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: История
Статья в выпуске: 4 (28), 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье завершается начатый ранее автором см.: «Гуманитарий», 2013, № 1, 4) историографический анализ очерка «Евангелие в истории», принадлежащий талантливому российскому историку и университетскому преподавателю с мордовскими корнями М. Н. Петрову (1826 - 1888). Несмотря на то, с момента первого издания этой незаслуженно забытой работы прошло почти полтора века, многие ее идеи актуальны и в наши дни.
Христианство, раннее христианство, евангелие, историография, историография раннего христианства, историография евангелия, античный мир, язычество, духовнонравственные ценности
Короткий адрес: https://sciup.org/14720846
IDR: 14720846 | УДК: 27-247:655.3
Текст научной статьи «Голос Христа» и «голос истории» в восприятии М. Н. Петрова
По разным причинам в отечественной историографии раннего христианства и его главной мировоззренческой основы – Нового Завета, – имя и творческое наследие талантливого историка и университетского преподавателя с мордовским корнями М. Н. Петрова (1826–1887) до недавнего времени были практически неизвестны. Между тем, как это уже отмечалось нами, в его очерке «Евангелие в истории» (1863, 1868, 1882, 1895, 1904) впервые в российской исторической науке была предпринята попытка показать в самой доступной для массового читателя (прежде всего – для учащейся молодежи) форме культурно-историческое значение евангельской системы духовно-нравственных ценностей и ориентиров [18; 19, c. 168; 20; 21].
Для достижения поставленной цели М. Н. Петров постарался передать основной «дух языческой древности», «великой реакцией» на который, по его мнению, и стало появление христианства [21, c. 3]. При этом им вполне обоснованно отмечались огромная военная и экономическая мощь Римской империи, ослепительное великолепие ее столицы – императорского Рима, «сосредоточившего в стенах своих всю образованность, все богатство и силу тогдашнего исторического мира» [23, c. 4]. Установление режима прин- ципата, представлявшего собой тщательно замаскированное под демократическое монархическое правление, позволило прекратить кровавые гражданские войны, создать благоприятные условия для хозяйственного подъема, гигантского городского строительства, развития ремесленного производства и торговли. Своего зенита в это время достигла и античная культура, во многом базировавшаяся на достижениях угасших цивилизаций Древнего Ближнего Востока (прежде всего Вавилона и Египта) [4, c. 245].
Однако за внешним блеском и могуществом римской державы, по Петрову, скрывались и такие явления, которые обесценивали все ее блага и достижения: императорский произвол (по его терминологии – «механическая деспотия»), политическое бесправие огромной массы свободных римских граждан, вопиющее социальное неравенство.
Лаконично, на основе различных фактов из античных письменных источников и трудов ряда европейских историков конца XVIII – первой половины XIX века (Ш. Л. Дезобри, Ф. Ж. де Шампаньи) Петров сумел ярко показать быт и нравы представителей «высшего класса» римского общества (крупных землевладельцев, торговцев – магнатов, императорской бюрократии и т.д.).
Вся их повседневная жизнь, с самого утра до позднего вечера, была наполнена «холодным бесчеловечьем», культом безудержного потребления (чего только стоят упоминаемые им блюда из павлиньих языков, соус из мозгов попугаев), бесстыдными наслаждениями; вокруг них царила атмосфера «разврата, раболепства, лицемерия, пустоты и пошлости…» [23, c. 4–7]. Каждого мыслящего человека из этого круга римского общества охватывала бесконечная тоска, у него возникало или отвращение к бессмысленной жизни («taedium vitae»), оканчивавшееся нередко самоубийством, или желание броситься «…в самую необузданную чувственность, могущую, хоть на время, унять томление пустоты, его мучившее» [23, c. 7].
Деградация моральных устоев («пустота и материализм»), полагал М. Н. Петров, происходила не только внутри правящей элиты Римской империи, но и среди простых ее граждан, и прежде всего свободных жителей «Вечного города». Римский плебс постепенно погружался в атмосферу «хлеба и зрелищ», основанную на культе самых низменных удовольствий. Особой популярностью у него пользовались гладиаторские бои, звериные травли, морские сражения («на-вмахии»), женские притоны [23, c.6, 7].
Не являясь приверженцем материалистического понимания истории с присущим ему классовым подходом к анализу исторического процесса, М. Н. Петров тем не менее не обошел вниманием и такую «теневую» сторону древнеримской цивилизации, как рабство. Кратко описав бесчеловечное положение многочисленных рабов, «низведенных на степень животных», он пришел к выводу, который мог бы и сегодня украсить любой школьный или вузовский учебник по античной истории: «Рим много сделал для человечества, но таких преступлений не искупит вся его славная история» [23, c. 8].
Не менее яркими красками Петров охарактеризовал тяжелое социальное положение жителей римских провинций. В его восприятии, опиравшемся на авторитетное свидетельство Цицерона, побежденные римлянами народы получали не столько «сомнительные» блага цивилизации, сколько преимущественно подвергались систематическому грабежу, вымогательству и разо- рению. Особое внимание историк обращал на «страшное финансовое истощение провинций», оказавшихся, по сути дела, под двойным налоговым гнетом: с одной стороны, римских проконсулов и их чиновничьей когорты, а с другой – откупщиков, прибегавших при сборе податей к различным формам насилия, включая пытки несостоятельных плательщиков.
Так в синоптической (обобщающей, обозревающей все вместе – В. Л. ) форме М. Н. Петров подводил читателя к мысли о том, что уже в начале нашей эры античный мир переживал глубокий социальнопсихологический кризис, ответом на который и явилось зарождение христианства. «Надо представить себе, – подчеркивал он, – весь этот мир немногих избранников, утопающих в богатстве и наслаждениях и все-таки томящихся безысходною скукой, и бесправных миллионов, обреченных на вечное горе, – мир необузданного эгоизма и ужасающих страданий, – тогда только мы оценим весь смысл необъятного переворота, посеянного в нем евангельской проповедью» [23, c. 9].
Сущность «необъятного переворота» Петров усматривал в том, что Евангелие предложило человеку совершенно новый смысл жизни. Для любого христианина, независимого от его социального положения, главной жизненной целью становилось не приобретение и приумножение различных земных благ (славы, власти, богатства и т. д.), не получение всевозможных чувственных удовольствий, а прежде всего чистая и бескорыстная (кенотическая) любовь – к Богу, к своему ближнему и даже к врагу своему (Мф. 5: 43–44; Мр. 12: 30–31; Лк. 6: 27). Ни одна философия, писал М. Н. Петров, не смогла «…так просто, верно и вместе с тем так глубоко решить задачу земного существования и указать ему руководящий закон» [23, c. 9].
В «учении о любви», взятом в тесном единстве с другими заповедями Иисуса Христа, М. Н. Петров усматривал первую и наиболее важную особенность и «образовательную» заслугу христианства в мировой истории, перед которой, по его словам, «и самый смелый рационализм всегда должен будет преклониться и пасть… во прах» [23, c. 10]. «Языческая древность, с сорока веками своего развития, – эмоционально резюми- ровал Петров, – не в силах была подняться до высоты такого представления, наше время, со всеми успехами своего гордого образования, не могло создать ничего совершеннее, – нужно думать, что и самое далекое будущее не превзойдет его никогда» [23, c. 10].
Трудно назвать имя другого российского историка, который бы также высоко оценивал гуманистическое значение евангельского нравственного идеала. Если С. А. Жебелев (1867–1941) – один из патриархов отечественного антиковедения – в своей монографии «Евангелия канонические и апокрифические», впервые изданной в 1918 году (переиздана была в 2011), просто обошел вниманием эту проблему [9], то в дальнейшем советские историки, как и все обществоведы, чаще всего расценивали христиански е заповеди как «моральное зло», которое якобы освещают покорность человека, отвращает его от сопротивления эксплуатации, насаждает индивидуализм, индифферентизм, равнодушие к общественным делам, к «земным заботам» и т. д. [1, с. 121–127, 136–139; 13, c. 567, 580, 583; 15, c. 332].
Второй важнейшей особенностью Евангелия М. Н. Петров считал его необычайно высокую духовность. По образному выражению ученого, она буквально «разлита» «… во всем этом творении», но наиболее четко и глубоко проявляется в трех главных идеях, «высказанных в проповеди Спасителя» и заключавших в себе всю программу «духовной жизни нового человечества»: 1) о господстве духа над всякими формами; 2) о превосходстве духовного начала над началом материальным; 3) о приоритете индивидуальной жизни («внутренней клети») человека над общественной и политической деятельностью [23, c. 10, 11].
Раскрывая историческое значение первой из этих идей, Петров отмечал, что «господствующим характером» всех древних цивилизаций, и особенно цивилизации классических народов (греков и римлян), была «пластика», выражавшаяся в «…ограниченности, или точнее – в исчерпаемости, измеримости духовного содержания известными твердыми формами, его обнимавшими» [23, c. 11].
Следует заметить, что данная точка зрения профессора всеобщей истории Харьковского университета не являлась в то время абсолютно новой. Впервые она была сформулирована в трудах европейских исследователей античной культуры, среди которых, в частности, особо почетное место занимал выдающийся немецкий историк искусства И. И. Винкельман (1717–1768). Как известно, в своих работах «Мысли о подражании греческим образцам» (1755) и «История искусства древности» (1764), осмысление и переосмысление которых в среде российской интеллигенции первой половины XIX века были «модным увлечением» [29, c. 75], на основе анализа богатого эмпирического материала он пришел к выводу об особой тяге древних греков (прежде всего в скульптуре) к пластичности внешней формы, наполненной «благородной простотой и спокойным величием» [5, c. 107]. В таком же духе о сущности эстетического идеала древних греков в различных его проявлениях высказывались в XIX веке Ф. Шиллер («Боги Греции»), В. Гумбольдт («Рассуждения об изучении древних»), друзья по семинару в Ф. Тюбингене Гельдерлин и Гегель, и даже (!) К. Маркс [16, c. 57–113].
Однако в отличие от своих знаменитых европейских современников, М. Н. Петров хотя и признавал за «пластикой», с присущей ей симметрией, гармонией и красотой внешних форм, огромную жизненную силу, в то же время усматривал в ней одну из главных причин медленного «движения» античной культуры, которое закончилось его полным застоем, когда «…изжился этот определенный фонд духовного содержания, оставив по себе одни блестящие, но пустые формы» [23, c. 11]. «На исходе времен дохристианских, -подчеркивал он, – во всех сферах деятельности человеческой в особенности поразительно стало общее оскудение духа, – и жизнь, мало по малу, превратилась в обряд… душа которого давно уже отлетела» [23, c. 11].
Чтобы возродить человека в античных реалиях к новой, «никогда неистощимой» жизни, «надо было прежде всего внушить ему смелость, уверенность в собственном могуществе, в неодолимых силах его духа» [23, c. 11]. Это сделано «голосом Спасителя»: «…Истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: «перейди отсюда туда», и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас» (Мф. 17: 20; Мр. 11: 23). «Никогда дух человека, – писал М. Н. Петров, – не достигал еще такой изумительной высоты, как в этих словах, никогда законная вера в его господство над миром не выражалась тверже и абсолютнее. Все на земле, сама природа должны отныне покорствовать его царственной воле и мысли» [23, c. 11]. При этом историк имел в виду не простое возвеличивание Иисусом Христом человека и превращение его в «человека-бога», которому «все позволено». На наш взгляд, он прекрасно понимал сущность христианской духовности, выраженной, в частности, в следующих проникновенных словах апостола Павла: «Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание… Если мы живем духом, то по духу и поступать должны…» (Гал. 5: 22, 25).
Признавая, что дух (вера) творит формы, что какова духовность, таковы и плоды человеческой деятельности, Петров считал, что евангельский идеал был не только антитезой античной пластики (по терминологии А. Ф. Лосева – «скульптурности»), но и также «беспощадным посрамлением» фарисейской мудрости и саддукейского благочестия евреев с их требованием строгого и безукоризненного выполнения прежде всего внешних формальностей закона Моисея. Учение Христа преодолевало внешний характер форм. Теперь «уже не обряд, не буква будут иметь существенное значение, но дух, мысль человека, в какой бы форме она ни явилась» [23, c. 12]. И это, по мнению Петрова, создавало важнейшую нравственную предпосылку для успешной деятельности не только человека, но и для бесконечного совершенствования всего «…человечества, которое, не стесняясь более никакими постоянными формами жизни, будет господствовать над ними, творить и разрушать их, по требованию законов и прав своего развития» [23, c. 11, 12].
Алгоритм своих рассуждений относительно исторического значения евангельской идеи о первичности духовного начала и вторично-сти начала материального Петров также выстраивал на основе сравнения евангельских ценностей («голоса Христа») с «характером языческой древности» в трех основных сферах жизнедеятельности человека – индивидуальной, общественной и политической.
Индивидуальная (внутренняя) жизнь древнего языческого человека, по Петрову, отличалась ярко выраженным «материализмом» и «чувственностью», коренившимися «…в самом средоточии и источнике этой жизни – в религиозных представлениях» [23, c. 12]. При этом он вполне правомерно полагал, что не только на древнем Востоке (у египтян, вавилонян, персов и др.), но и в античном мире (у греков и римлян) преобладали так называемые «натуральные» религии, в которых обожествлялись природа и различные ее явления преимущественно той местности, где проживали данные народы. Если на низших ступенях их исторического развития религиозность ограничивалась простым поклонением предметам вещественной природы (фетишам), то на высших – обоготворением ее сил в сложных мифологических образах и символах [12]. Однако и в первом, и во втором случаях «мы видим природу, которая своею властью, своим могуществом тяготеет над свободным сознанием человека» [23, c. 12].
Неразрывно связанные со своей «родиной» и народом, или даже – с отдельными сословиями и фамилиями, боги языческого мира, полагал М. Н. Петров, имели слишком «частный» характер. Покидая свои родные места, «переселяясь» в другую местность, как это весьма часто и происходило в результате религиозной политики первых римских императоров [14, c. 42, 47], они тотчас «теряли всякое живое значение», и поклонение им становилось бессодержательным действием, превращаясь «…в один пустой и голый обряд» [23, c. 13, 14]. Его выполнение было не столько требованием этики, сколько прагматическим расчетом, выраженным в классической формуле: «do ut des» («я даю, чтобы ты дал»).
Христианство, подчеркивал М. Н. Петров, провозгласив, что «Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине» (Ин. 4: 24), уже только одним этим произвело «громадный переворот в религиозном сознании человечества» [23, c. 14]. С этого момента природа лишалась своего древнего всемогущества, своей божественности и низводилась «…на степень служебной и покорной человеку материи», открывая «свободный путь к всестороннему развитию и успеху… человеческого духа», который был так долго подавлен властью над ним природы [23, c. 14].
Следует заметить, что эта мысль Петрова, уходящая своими корнями в наследие позднего Г. Гегеля, популярность которого в первой половине XIX века среди русских интеллектуалов достигала почти «характера религиозного увлечения» [2, c. 562], вплоть до недавнего времени имела мало сторонников в отечественном обществознании. На протяжении большей части его истории в XX веке чаще всего все важнейшие проявления «человеческого духа», как, например, развитие науки и основанных на ее достижениях технологии, «выводились» из греческого рационализма и философского материализма XVII–XVIII веков [8]. Что касается христианства, то его базовые мировоззренческие установки нередко рассматривались в качестве одного из главных препятствий на пути научно-технического прогресса.
Лишь с начала 1990-х годов в нашей стране стали открыто распространяться и иные взгляды на эту проблему, родственные, по своей сути, тем воззрениям, с которыми выступал М. Н. Петров почти 150 лет назад. Первоначально они принадлежали в основном европейским ученым и религиозным деятелям. Вот, например, что писал в своей статье «Христианство и культура», опубликованной в 1993 году в журнале «Вопросы философии», руководитель Центра восточноевропейских исследований, профессор Католического университета (Айххштадт, Германия) Николаус Лобковиц: «Ни технология, как мы ее знаем, ни наука, какую предполагает эта технология, не могли бы существовать без культуры, религиозные установки которой обезбожили и десакрализовали природу так, как это сделало христианство» [17, c. 72]. С этой мыслью полностью солидаризировался и другой современный европейский исследователь Ф. Роде: «Монотеизм, распространенный христианством в Римской империи, привел к десакрализации, к отказу от идеи божественной сущности природы, практически к тому, что в сочетании с греческой рациональностью породило нашу сегодняшнюю техническую цивилизацию» [25, c. 90–91].
Глубокие перемены, по Петрову, Евангелие произвело не только в культурном раз- витии, но и в общественной жизни древнего мира. При этом он особо отмечал, что во всех государствах дохристианского мира одним из важнейших источников и принципов организации общественной жизни и социальных отношений являлось «начало фамильное, родовое, кровное, или, говоря другими словами, начало материальное, чувственное»; «та же физическая природа, которая властвовала над душевною жизнью древнего человека, обусловливала также и характер его социальных отношений» [23, c. 15].
Петров считал, что значение кровнородственных связей было не одинаковым в различных древних обществах. По его мнению, наиболее могущественным родовое начало было в древневосточных цивилизациях (в Древнем Китае и Древней Индии – в особенности), где «преимущества крови и расы встречаются на каждом шагу» [23, c. 15]. На Западе – в государствах классической древности – сила родовых отношений, была слабее, чем на Древнем Востоке. Однако и здесь «…вся история Греции и Рима представляет борьбу восточного родового начала с началом собственно государственным, основанием которого служит не происхождение… а нравственное достоинство человека » (курсив наш. – В. Л. ) [23, c. 16].
Очень своеобразным с точки зрения прежде всего состояния молодой отечественной историографии античной истории был подход Петрова к оценке исхода подобной борьбы в различных частях античного мира. По его мнению, в Греции эта борьба, наиболее ярко проявившаяся в ходе братоубийственной Пелопоннесской войны, закончилась «… победою родового начала, олицетворенного в дорической Спарте» [23, c. 16]. В Риме, напротив, «вековой спор» плебеев с патрициями, имевший отчасти подобное же значение, «оканчивается учреждением империи, как демократической диктатуры, т. е. торжеством государственной идеи, на этот раз пересилившей узкие родовые отношения» [23, c. 16].
Однако в целом, по мнению М. Н. Петрова, глубокие противоречия между старой кровно-родственной стихией и новыми государственно-моральными началами в античную эпоху преодолеть не удалось. Основным объективным препятствием для этого он считал наличие в эпоху Античности, даже во времена знаменитой «перикловой демократии» в Афинах, рабства – «самого вопиющего из родовых учреждений» [23, c. 17].
Не только в самой жизни, но даже в своих общественных идеалах, отмечал М. Н. Петров, древние греки и римляне так и не смогли «…возвыситься над узким го-ризонтом…родовых понятий» [23, c. 17]. При этом он ссылался на знаменитый проект Платона, в котором «…божественный» мудрец античного мира не находит ничего совершеннее для своего идеального государства, как форму аристократически-родовой Спарты, примеренную с уважением к науке» [23, c. 17].
Только христианству, твердо заявлял Петров, «обязано человечество окончательным и невозвратным осуждением узких кровных понятий и предрассудков», основанных на принципе «свой – чужой» [23, c. 17]. Подтверждение этому историк находит в следующих словах Иисуса Христа: «Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня» (Мф., 10: 37); «…Всякий, кто исполняет волю Отца Моего Небесного, тот и брат Мой, и сестра Моя, и мать» (Мр. 12: 50); «И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени Моего, тот получит в сто крат и наследует жизнь вечную» (Мф. 19: 29).
Разъясняя историческое значение столь необычных для простого человека установок (истин) Иисуса Христа, Петров отмечал, что в них выражена глубокая мысль, а именно: «для целей духовных, для истины и добра, для высших разумных стремлений человек должен отказаться от всех своих кровных привязанностей и влечений, должен пожертвовать и собственною жизнью, подобно тому, как пожертвовал ею Спаситель для блага и счастья человечества» [23, c. 17–18]. С появлением христианства, считал ученый, уже не кровный инстинкт, свойственный даже животным, «…будет исключительно руководить людскими связями, но выше и прежде всего оценится нравственное достоинство личности, как начало и основание нового общественного порядка», идеалом которого должно стать достижение Царства Божиего, как царства «…правды, любви, свободы и высшей духовной гармонии» [23, c. 18].
Обращает на себя внимание реализм М. Н. Петрова во взглядах на значение данной идеи. Он прекрасно понимал, что «духовные стяжания и победы не даются человеку легкою и дешевою ценою», что на пути становления христианского общества от него потребуются тяжелые и «даже противоестественные» (имея в виду отказ от кровнородственной психологии и морали) жертвы. Однако ученый был убежден, что только на евангельском пути возможно всестороннее совершенствование не только личности, но и всего общества [23, c. 18].
Столь же высоко Петров оценивал значение Евангелия и для развития международных отношений. При этом он совершенно обоснованно отмечал, что в дохристианскую эпоху и в этой сфере жизнедеятельности человека безраздельно «властвовали кровные инстинкты и побуждения». Местный характер божеств исключал идею о единстве и братстве человечества. Отношения между различными языческими народами и государствами чаще всего носили враждебный характер. Чужой представлялся врагом, истребление которого было «приятно» местным божествам. В восприятии даже самых высокообразованных греков (Аристотель) любой иноплеменник являлся естественным врагом, заслуживавшим не только презрения и ненависти, но и предназначенным для рабства. С подобным же убеждением вели свои бесконечные войны и древние римляне, «часто и не подозревая в этом чего-нибудь противного справедливости или долгу» [23, c. 19].
Христианство, напротив, впервые в истории человечества выступило с проповедью братской любви между народами. Комментируя слова Послания апостола Павла к галатам о том, что с пришествием Христа «нет уже Иудея, ни Еллина; нет раба, ни свободного; нет мужчины, ни женщины: ибо все вы одно во Христе Иисусе» (Гал., 3:28), Петров подчеркивал, что в них открывался «…но-вый период истории человечества»: вместо прежней племенной неприязни «в каждом человеке христианин должен уважать его нравственное достоинство, какого бы племени и происхождения он ни был…» [23,
-
c. 19]. Только Евангелие «внушая повсюду деятельную любовь и духовное братство между народами», делает возможными преодоление взаимного отчуждения между народами и формирование с «неистощимой будущностью» всемирной цивилизации, основанной на любви и духовном братстве между народами [23, c. 19].
Надо заметить, что евангельский принцип построения международных отношений, который так высоко оценивал М. Н. Петров, не потерял своего значения и в современных условиях. Так, в «Основах социальной концепции Русской Православной Церкви» (2000) говорится, например, об этом следующее: «Христианский идеал поведения народа и правительства в сфере международных отношений заключается в «золотом правиле»: «Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними (Мф., 7: 12)» [22, c. 57].
Свою актуальность сохраняет и один из последних сюжетов очерка М. Н. Петрова «Евангелие в истории», посвященный христианской идее о «первенствующем значении жизни индивидуальной над деятельностью общественною и политическою». Для того чтобы обосновать ее новизну и историческое значение, историк напоминал читателю, что многие крупные религиозные системы древнего мира (конфуцианство, ведизм, зороастризм и др.) подробно и последовательно излагали взгляды об «идеальных» формах государственного устройства, характере верховной власти, взаимных отношениях и правах подданных, об обязанностях чиновников. По его словам, в этих системах «…для государства как бы дан идеал, предначертан известный план, который должен осуществиться в исторической жизни народа» [23, c. 20].
В Евангелии, категорично заявлял Петров, «нет никакого подобного идеала» [23, c. 21]. Все внимание в нем «обращено почти исключительно на улучшение, усовершенствование личной природы человека, его внутреннего существа» [23, c. 20]. «Спаситель, – писал он, – не внушал народам – как должны они устроить общественную жизнь, или какую избрать форму правления, а старался только облагородить и возвысить личную духовную натуру человека» [23, c. 21].
Являясь светским, а не церковным историком, М. Н. Петров тем не менее был убежден в правоте «Божественного сердцеведца», который знал, что «единственный источник общественной, политической и всякой исторической жизни есть дух человека и что чем он совершеннее, тем совершеннее будет и все, им созданное» [23, c. 21].
Таким образом, в кардинальном и очень дискуссионном не только во второй половине XIX – начале XX века, но и в наши дни вопросе о путях и способах преодоления многоликого социального зла (нищеты, эксплуатации, неравноправия и т. д.) Петров оказался ближе не к революционной идеологии, а к нравственно-общественному идеалу представителей «Святой Руси», полагавших, что именно внутреннее преображение (воскресение) каждого человека в конечном счете должно послужить залогом прочного справедливого социального устройства всей страны. Серафим Саровский, например, в своей беседе с Н. А. Мотовиловым говорил об этом так: «Чадо мое! Стяжай в своей душе благодать Духа Святого, и вокруг тебя спасутся тысячи» [3, c. 33].
В таком же духе размышляли и некоторые видные деятели золотого века русской культуры. Например, Н. В. Гоголь, находившийся в своем творчестве под огромным воздействием не только святоотеческих писаний, но и личных встреч и бесед с рядом знаменитых русских духовных подвижников XIX века (прежде всего с оптинскими старцами), в своем ответе на резкую критику В. Г. Белинским его «Выбранных мест из переписки с друзьями» утверждал: «Общество образуется само собою, общество слагается из единиц. Надобно, чтобы каждая единица исполнила должность свою. …нуж-но вспомнить человеку, что он вовсе не материальная скотина, но высокий гражданин высокого небесного гражданства. Покуда он хоть сколько-нибудь не будет жить жизнью небесного гражданина, до тех пор не придет в порядок и земное гражданство» [7, c. 12].
Традиционно-православная, по своей сути, мысль, что нужно прежде всего исправить самого себя, а не стремиться любыми способами «осчастливить» (улучшить жизнь других), была своеобразным когерентным лучом всего творчества и другого знаменитого современника М. Н. Петрова – Ф. М. Достоевского. В отличие от «стрюц-ких» европеизма, либерализма и социализма, делавших основную ставку на разработку различных «научных» проектов создания «идеального общества», Достоевский считал, что «…никакое уничтожение бедности, никакая организация труда не спасут человечество от ненормальности» [9, c. 201]. «Ясно и понятно до очевидности, – подчеркивал он, – что зло таится в человечестве глубже, чем предполагают лекаря-социалисты, что ни в каком устройстве общества не избегнете зла, что душа человеческая останется та же, что ненормальность и грех исходят из нее самой и что, наконец, законы духа человеческого столь еще неизвестны, столь неведомы науке, столь неопределенны и столь таинственны, что нет и не может быть еще ни лекарей, ни даже судей окончательных, а есть Тот, который говорит: «Мне отмщение и аз воздам». Ему одному лишь известна вся тайна мира сего и окончательная судьба человека» [9, c. 201].
В острой полемике со своими либерально настроенными оппонентами, Ф. М. Достоевский доказывал, что личное самосовершенствование в духе христианской любви и общественное устройство являются «двумя половинками» единого живого организма, которые нельзя разделить (или разрезать) никаким «ученым ножом» [10, c. 166, 167].
Евангельская идея о нравственном самосовершенствовании, как одном из главных средств в преодолении социального зла, была близка и Л. Н. Толстому, являвшемуся, по мнению некоторых авторитетных исследователей «русской идеи» (Н. А. Бердяев), «пробудителем религиозной совести в обществе религиозно-индифферентном или враждебном христианству» [2, c. 679]. Несмотря на гиперкритическое отношение к официальному православию и страстное обличение различных «неправд исторической церковности», Л. Н.Толстой, тем не менее, очень высоко ценил евангельский «общественный» идеал. В заключительной сцене романа «Воскресение» (1899), который Александр Блок назовет «завещанием уходящего столетия новому», князь Дмитрий Иванович Нехлюдов говорит буквально следующее: «Ищите Царства Божия, и правды его, а остальное приложится вам. А мы ищем остального и, очевидно, не находим его» [27, c.468].
В начале XX века на ту же мысль, но на основе другой аргументации, обращал пристальное внимание и выдающийся русский философ С. Н. Булгаков (1871–1944): «…никакая внешняя свобода не дает еще сама по себе свободы внутренней, христианской» [5, c. 227].
В советскую эпоху в отечественной исторической науке и – шире – всей гума-нитаристике, оказавшейся в жестких тисках идеологической цензуры, эти идеи были фактически преданы забвению. Вопрос о социальном идеале христианства и его исторической действенности, так ярко и самобытно поставленный М. Н. Петровым и некоторыми его выдающимися современниками, рассматривался почти исключительно с позиций «воинствующего материализма» и атеизма. Учение Иисуса Христа чаще всего изображалось как явление исключительно социально-реакционное, как «религия эксплуататоров», призванная благословлять их частную собственность и власть, как «религиозный дурман», который «отвлекает силы и энергию человека от реальной жизни, от борьбы за создание общества, способного обеспечить действительное благополучие всех людей», отвращает внимание трудящихся от земной несправедливости надеждой на награду в потустороннем мире [1; 28, с. 41].
Подводя общий итог всему вышесказанному, отметим, что в истории дореволюционной отечественной исторической мысли М. Н. Петров оказался не только талантливым популяризатором идеи об огромной нравственно – преобразующей силе Евангелия, «действовавшей в течение веков» и явившейся одним из важнейших «элементов», «из которых сложилась цивилизация новой Европы» [23, c. 21]. В своем внешне незамысловатом очерке – эссе он выдвинул целый ряд и других глубоких и оригинальных теоретических положений, которые не утратили своей значимости до сегодняшнего дня.
Особое общественно-практическое звучание среди них в современных условиях представляет, на наш взгляд, идея Петрова о том, что главной целью социоисториче- ского развития является не столько возрастание материально-технической, военной и социальной мощи государства (по известному образному выражению Т. Гоббса – «Левиафана»), сколько формирование в человеке «высочайших нравственных убеждений» и понятий – о добре, правде и справедливости. В этой своей мысли «скромный труженик» отечественной исторической науки второй половины XIX века в какой – то мере предвосхитил выводы некоторых известных современных специалистов в области философии истории (например, А. Дж. Тойнби), полагавших, что именно в русле развития «…духовных возможностей, возвышении души на ее жизненном пути на Земле – определенно существует неисчерпаемый источник прогресса» [25, c. 147].
Список литературы «Голос Христа» и «голос истории» в восприятии М. Н. Петрова
- Андреев Г. Л. Социальные и нравственные принципы коммунизма в интерпретации современных христианских богословов/Г. Л. Андреев, В. Е. Ладыренко, Л. П. Полякова//Вопросы научного атеизма. -М.: «Мысль», 1966. -Вып. 2. -С. 110-141
- Бердяев Н. А. Русская идея/Н. А. Бердяев//Бердяев Н. А. Русская идея. -М.; СПб., 2005. -С. 541-735
- Беседа преп. Серафима Саровского с Н.А. Мотовиловым «О цели христианской жизни». -Сергиев Посад, 1914. -53 с
- Булгаков С. Н. О первохристианстве/С. Н. Булгаков//Булгаков С. Н. Два Града. Исследования о природе общественных идеалов. -М., 1911. -С. 234-303
- Булгаков С. Н. Христианство и социальный вопрос/С. Н. Булгаков//Булгаков С. Н. Два Града. Исследования о природе общественных идеалов. -М., 1911. -С. 206-233
- Винкельман И. И. Избранные произведения и письма/И. И. Винкельман. -М.; Л.: Гослитиздат, 1935. -437 с
- Воропаев В. А. «Монастырь ваш -Россия!»/В. А. Воропаев//Гоголь Н. В. Духовная проза. М., 1992. -С. 3-14
- Гараджа В. И. Ленинский анализ революции в естествознании и проблемы атеизма/В. И. Гараджа//Вопросы научного атеизма. -М., 1969. -Вып. 8. -С. 137-172
- Достоевский Ф. М. Дневник писателя за 1877. июль -август/Ф. М. Достоевский//Полн. собр. соч.: в 30 т. -Л., 1983. -Т. 25. -С. 172-224
- Достоевский Ф. М. Дневник писателя за 1880 год/Ф. М. Достоевский//Полн. собр. соч.: в 30 т. -Л., 1983. -Т. 26. -С. 161-171
- Жебелев С.А. Евангелия канонические и апокрифические/С. А. Жебелев. -2-е изд. -М.: ЛИБРОКОМ, 2011. -130 с
- Зелинский Ф. Ф. Древнегреческая религия/Ф. Ф. Зелинский. -Петроград, 1918. -149 с
- Исторический материализм/Под ред. Ф. В. Константинова. -М.: Госполитиздат, 1950. -747 с
- Корелин М. С. Падение античного миросозерцания. Культурный кризис в Римской импернии/М. С. Корелин. -СПб.: Изд. дом. «Коло», 2005. -192 с
- Курбатов Г. Л. Христианство: Античность. Византия. Древняя Русь/Г. Л. Курбатов, Э. Д. Фролов, И. Я. Фроянов. -Л.: Лениздат, 1988. -334 с
- Лившиц М. Иоганн Иоахим Винкельман и три эпохи буржуазного мировоззрения/М. А. Лившиц//Винкельман И. И. Собрание сочинений: в 3 т. -М., 1986. -Т. 2. -С. 57-113
- Лобковиц Н. Христианство и культура/Николаус Лобковиц//Вопросы философии. -1993. -№ 3. -С.71-81
- Лунин В. С. О методологическом аспекте очерка М. Н. Петрова «Евангелие в истории»/В. С. Лунин//Гуманитарий: актуальные проблемы гуманитарной науки и образования. -2013. -№ 4(24). -С. 55-60
- Лунин В. С. О теоретико-методологических воззрениях М. Н. Петрова -первого профессионального историка из мордовской диаспоры/М. Н. Петров//Социальные и гуманитарные исследования: традиции и реальности: межвуз. сб. науч. тр. -Саранск, 2008. -Вып. 6. -С. 164-177
- Лунин В. С. Профессор М. Н. Петров -первый мордовский исследователь всеобщей истории/В. С. Лунин//Гуманитарий: актуальные проблемы гуманитарной науки и образования. -2008. -№ 7. -С. 148-161
- Лунин В. С Современное восприятие актуальности подготовки и издания М. Н. Петровым очерка «Евангелие в истории»/В. С. Лунин//Гуманитарий: актуальные проблемы гуманитарной науки и образования. -2013. -№ 1 (21). -С. 6-15
- Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. -М.: Библиотека Веб-центра «Омега», 2000. -С. 57
- Петров М. Н. Евангелие в истории/М. Н. Петров//Петров М. Н. Из всемирной истории: очерки. -2-е изд. -Харьков, 1882. -С. 3-22
- Петров М. Н. Евангелие, как образовательная сила в истории нового времени/М. Н. Петров//Духовный вестник . -1863. -№ 6. -С. 397-415
- Роде Ф. Роль христианства в европейской цивилизации//Европейский альманах. История. Традиции. Культура. -М., 1993. -С. 90-97
- Тойнби А. Дж. Христианство и цивилизация/А. Дж. Тойнби//Тойнби А. Дж. Цивилизация перед судом истории: пер. с англ. -М., 1996. -С. 135-149
- Толстой Л. Н. Воскресение/Л.Н. Толстой//Собр. соч.: в 12 т. -М., 1987. -Т. 10. -С. 5-468
- Федосеев П. Н. Ленинизм -основа современного научного мировоззрения/П. Н. Федосеев//Вопросы научного атеизма. -М., 1969. -Вып. 8. -С. 3-41
- Фролов Э. Д. Традиции классицизма и петербургское антиковедение/Э. Д. Фролов//Проблемы истории, филологии, культуры: сб. ст. -М., 2000. -Вып. 8. -С. 61-83