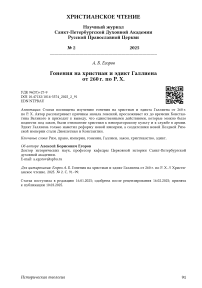Гонения на христиан и эдикт Галлиена от 260г. по Р.Х.
Автор: А.Б. Егоров
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Историческая теология
Статья в выпуске: 2 (113), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена изучению гонения на христиан и эдикта Галлиена от 260 г. по Р. Х. Автор рассматривает причины начала гонений, прослеживает их до времени Константина Великого и приходит к выводу, что единственными действиями, которые можно было подвести под закон, были отношение христиан к императорскому культу и к службе в армии. Эдикт Галлиена только наметил реформу новой империи, а создателями новой Поздней Римской империи стали Диоклетиан и Константин.
Рим, право, империя, гонения, Галлиен, закон, христианство, эдикт
Короткий адрес: https://sciup.org/140309602
IDR: 140309602 | УДК: 94(37)+27-9 | DOI: 10.47132/1814-5574_2025_2_91
Текст научной статьи Гонения на христиан и эдикт Галлиена от 260г. по Р.Х.
KHRISTIANSKOYE CHTENIYE [Christian Reading]
Scientific Journal
Saint Petersburg Theological Academy Russian Orthodox Church
No.2 2025
Alexey B. Egorov
Persecution of Christians and Edict of Gallienus of 260 A. D.

UDK 94(37)+27-9
EDN NTPBAU
В истории гонений на христиан много неясных вопросов. В историографии ведутся споры, были ли эти преследования основаны на некоем фундаментальном противостоянии, носившем постоянный характер, или же речь идет о периодических более или менее случайных кампаниях ad hoc1. Встает вопрос, были ли императоры инициаторами этих гонений, или же в качестве таковых выступали какие-либо иные силы — толпы народа или лица, прямо связанные с языческими культами2. Совершенно непонятно, на каком правовом основании проводились антихристианские преследования и почему разветвленная и необычайно развитая римская правовая система с ее состязательным процессом, тщательной системой дознания и высочайшим уровнем юриспруденции вдруг куда-то исчезала3, когда дело касалось преследований христиан. Так, Плиний Младший ограничивался требованием принести жертву перед изображением императора и статуями богов и после этого «похулить Христа» (Plin. Epist., X. 96, 5), а св. Юстин пишет, что в его время не требовалось и этого — людей казнили лишь на основании принадлежности к христианам, без какого-либо дознания, по воле толпы, которая сама же с ними и расправлялась (Iust. Apol., I. 4, 7; 8, 2; 11, 1–2; 24, 1; 45, 5).
Политика в отношении христиан постоянно менялась, периоды толерантности, когда христиане проникали даже в высшие сферы общества, сменялись периодами подлинного геноцида на религиозной почве, а религиозная и идейная толерантность буквально испарялась, когда речь шла о христианах. Плиний открыто признает, что никогда не присутствовал на следствиях по делам о христианах и не знает, «следует ли наказывать само имя даже при отсутствии преступления, или же преступления, связанные с именем» (Plin. Epist., X. 96, 2).
Говоря современным языком, христиане признавались «преступной организацией», по отношению к ним использовались такие термины, как factio, coniuratio, seditio, orasis, равно как и другие, которые обозначали «коллективное безумие» (amentia, insania) [Schäfke, 1979, 596–607]. Их считали врагами mos maiorum и обвиняли во всех бедах империи вплоть до стихийных бедствий (Tert. ad Nat., I, 9). Тем не менее «преступная организация» столь вселенского масштаба должна была совершать преступления, и именно здесь начинались проблемы. Не претендуя на сколь-нибудь полное освещение темы, попробуем рассмотреть некоторые проблемы антихристианских гонений.
Неясно, на основании каких именно законов преследовали христиан. Вариантов довольно много. Так, П. Керецтес отмечает наличие трех групп теорий: 1. Наличие единого общего антихристианского закона (их могло быть несколько); 2. Преследование на основании магистратского coercitio [Keresztes, 1979, 279–281]; 3. Преследование на основании какого-либо из основных законов. Учитывая последнее, появляется достаточно большое количество разных вариантов: 1. Специальный закон против христиан; 2. Магистратское / позже императорское преследование (coercitio); 3. Закон об оскорблении величия (lex maiestatis); 4. Закон об асебии (acebeia), религиозном нечестии; 5. Законы о магии и колдовстве; и, наконец, 6. Законы о запрещенных коллегиях и религиях (collegia (religio) licita). Отметим и то, что все указанные выше варианты не исключали друг друга и могли сочетаться.
-
1. Теория единого антихристианского закона вызывает протесты, вероятно, большинства ученых [Keresztes, 1979, 288–289]. Практически очевидно, что до появления рескрипта Траяна каких-либо законодательных актов по этому вопросу не было вообще. Что же до рескрипта Траяна, то он касался вполне конкретной ситуации,
а после него последовали рескрипты Адриана (Eus. HE., IV. 8, 6) и Антонина Пия (Eus. HE., IV. 26, 13), которые как раз требовали наказывать христиан не как сообщество, а карать конкретные преступления. В период между 161 и 167 гг. Марк Аврелий и Луций Вер издали эдикт о необходимости принесения жертв, однако чисто формально прямого отношения именно к христианам он не имел [Keresztes, 1979, 297–298]. Коммод, похоже, прекратил гонение без какого-либо правового определения этого акта. Существуют сомнения даже в отношении эдикта Септимия Севера [Sordi, 1979, 345–350]. Безусловно общий характер имели лишь эдикты Деция 250 г. (Eus. HE., VI. 42, 1; VII. 11; Cypr. Epist., 43; 77–79) и Валериана 253 г., причем только последний (их было несколько) содержит более или менее разработанную форму запрета. Как отмечает П. Керецтес, слабость этой теории была причиной появления теории coercitio, восходящей к школе Т. Моммзена [Keresztes, 1979, 282].
-
2. Теория coercitio, т. е. дисциплинарной, сдерживающей полицейской власти магистрата, бывшей следствием его imperium, предполагала возможность наказывать человека, который сопротивлялся его приказам. Coercitio зарождается еще во времена республики и даже предполагает апелляцию на нее к народному собранию [Барто-шек, 1989, 72]. Естественно, что апеллировать на действия императора можно было только к нему самому, однако с чисто правовой точки зрения coercitio не могло быть совсем произвольной акцией магистрата и даже императора и было направлено либо против нарушителя закона, либо против угрозы государственной безопасности.
-
3. Закон об оскорблении величия (lex maiestatis) наказывал государственную измену (см., напр.: [Kübler, 1930, 542–559; Chilton, 1955, 73–81; Bauman, 1974]. Б. Кюблер отмечает, что закон часто касался людей, облеченных властью (хотя и не только их). Соответствующие законы Цезаря и Августа касаются трех категорий обвинения: 1. Hochverrat (преступления против власти) — организация мятежа, убийство магистрата, принесение присяги против государства (Dig., 48, 1-4); 2. Landesverrat (преступления против страны) — различного рода сношения с внешним врагом, побуждение друзей и союзников к отпадению, дезертирство; и 3. Нарушение обязанностей магистрата и гражданина — отказ покинуть провинцию по истечении срока, ведение войны без приказа императора, выполнение магистратских обязанностей частным лицом и т. п. [Kübler, 1930, 542–559]. При Тиберии, Калигуле, Нероне и Домициане под обвинение в maiestas стали попадать оскорбление словом, магические действия и всякого рода безобидные акции (например, переодевание перед статуей императора) [Егоров, 2023, 214–223]. Закон, однако, был крайне непопулярен в римском обществе, особенно в верхах, и во времена Антонинов власть постоянно пыталась вернуть его в «нормальное» русло.
-
4. Обвинения в «атеизме» (т. е. непризнании официальных богов) и асебии (asebeia, т. е. в религиозном нечестии) преследовали христиан постоянно. Вместе с тем необычайный плюрализм религиозной жизни империи способствовал тому, что эти законы должны были карать не идейные расхождения (тогда под обвинение в «атеизме» можно было бы подвести добрую половину населения империи), а насильственные или откровенно оскорбительные действия. Исследуя Афины V в. до Р. Х., Е. В. Никитюк дает очень подробную характеристику преступлений, попадавших под понятие асебии: осквернение святости места, кражи (гиеросилия), нарушение законов и обычаев самими жрецами, введение новых культов и организация фиасов, преступления иностранцев и гетер, нанесение ущерба символам веры, изготовление ядов, колдовство, оскорбление умерших и даже отцеубийство [Никитюк, 2018, 97–130]. Римское законодательство отличалось от афинского, вероятно, лишь тем, что многие преступления были выделены римским правом в особые категории, но общая идея оставалась та же. Что касается христиан, то их отношение к асебии было гораздо более негативно, чем отношение «языческого» общества.
-
5. Обвинения в магии и колдовстве также преследовали христиан. Вокруг христиан ходило множество самых диких слухов (от относительно «безобидного» слуха о поклонении ослиной голове до обвинения в ритуальных детоубийствах) [Доддс, 2003, 185–186], однако этот материал скорее подходил для пропаганды, стихийных погромов и внесудебных расправ, чем для правильно организованного судебного процесса. Людям, более или менее близко знакомым с христианами, становилось ясно, что они были более верующими, чем даже самые «религиозные» язычники, а их отношение к асебии, магии и колдовству было гораздо более негативным. В I–III вв. по Р. Х. мы не знаем ни одного случая убийства магистрата христианином (даже если тот уничтожал его единоверцев) или осквернения языческого храма. Что же касается детей, то они часто становились именно жертвами антихристианских гонений, как это было в 177 г. в Лугдуне (Eus. HE. V.1, 1-4, 3). Наконец, отметим, что, в отличие от процессов об оскорблении величия, дела об асебии, магии и колдовстве требовали правильно организованного процесса, который, как процесс Апулея, мог кончиться и оправданием.
-
6. Вопрос о «дозволенных» и «недозволенных» религиях и коллегиях, форму которых часто принимали религиозные сообщества, играл значительную роль в римском праве [Keresztes, 1979, 284-285]. Иудаизм имел множество врагов, однако он был объявлен religio licita Юлием Цезарем (Jos. Ant., XIV, 10), а потому не был запрещен даже во времена Иудейских войн 66–73 и 132–135 гг., тогда как репрессии против верующих были только в том случае, когда они брали в руки оружие. Наоборот, галльский друидизм был запрещен Клавдием в 47 г., речь шла о запрете организации, но не о репрессиях против людей. Христиане были religio illicita, но если какая-либо другая коллегия могла отделаться штрафом и возродиться под другим именем, то христиан посылали на смерть. В довершение ко всему христиане воспринимались не только как коллегия, а часто и вовсе не как она. Как отмечает С. Бенко, римляне I-III в. по Р. Х. затруднялись в вопросе о том, чем является христианская община. При всем разнообразии, коллегия все-таки была либо профессиональным союзом, наподобие средневекового цеха, либо «клубом по интересам», и законодательство еще со времен Юлия Цезаря было направлено прежде всего на пресечение городских беспорядков. Общину христиан часто воспринимали как коллегию, но ее могли считать чисто религиозным сообществом, иудейской сектой, сообществом злоумышленников — и, вместе с тем, новым таинством и даже философской школой [Benko, 1980, 1100].
Спецификой закона было то, что процесс мог происходить без адвоката и даже без права обвиняемого на самозащиту, однако он все-таки предполагал наличие серьезного дознания. Дознание же в отношении христиан носило примитивный характер или его не было вообще.
Христиане не нарушили ни одного пункта этого закона, и нигде не сказано, что они нарушали именно его. Вероятно, единственными действиями, которые можно было подвести под закон, были отношение христиан к императорскому культу и службе в армии. Положение с императорским культом было неоднозначным: во-первых, иудеям было разрешено не соблюдать культ (в христианах же часто видели иудейскую секту), а во-вторых, по замыслу Цезаря и Августа, закон карал именно насильственные действия, тогда как апологетам удалось доказать, что христиане на это не способны. От христиан могли ожидать чего угодно, но только не политических убийств, помощи врагу, организации мятежа, провинциальных восстаний и гражданских войн [Егоров, 2014, 355-356], а именно это становилось наиболее актуально после 160 г. Ненасильственный протест уже не пугал.
Тема христиан и армии нуждается в специальном исследовании, однако заметим лишь то, что новые исследования убедительно доказали: при всем пацифизме христиан предметом их протеста были не служба в армии и даже не участие в войнах, но засилье (наличие) языческих порядков в войсках [Helgeland, 1979, 816–818]. Когда этот вопрос был решен, христианские армии по своим боевым качествам ничем не уступали «языческим» [Helgeland, 1979, 816–818].
Подводя итоги, можно сказать, что хотя в отношении христиан часто присутствовало отношение к подданному, которого надо наказать за нарушение, но при этом и содействовать его исправлению, в других случаях мы видим явное отношение к врагу, которого надо уничтожить или по крайней мере заставить сдаться. Вместе с тем присутствовало и еще одно обстоятельство. Человек, признанный виновным в асебии, колдовстве, магии или причастности к запрещенной коллегии, мог признать свою вину, чистосердечно раскаяться, активно сотрудничать со следствием, доносить на других — все это, несомненно, облегчало его участь, но не освобождало от ответственности и наказания (в процессах maiestas все это почти не действовало). Наоборот, христианин, «виновный» во всех этих преступлениях, мог полностью избежать наказания путем простого отречения от своей веры. Идеологи империи прекрасно понимали, насколько трудным является этот акт для христиан (Plin. Epist., 96, 5), и использовали это в своих интересах, но в этих действиях можно увидеть и то, что испытывал если не реальный, то по крайней мере булгаковский Пилат, — подсознательное ощущение, а может быть, и четкое понимание того, что они отправляют на смерть невиновных людей. Это позволяет искать причину гонений не в области права, а в области политики и идеологии.
* * *
Римское право прецедентно, что во многом вызвано богатейшей традицией доправовой культуры (mos maiorum) [Штаерман, 1985, 210–211; Бартошек, 1989, 219; Cloud, 1994, 491–492], сохранившейся вплоть до последних веков империи. Более того, именно римляне в полной мере внеcли эту идею в мировое право, однако в случае с христианами дело обстояло особенно сложно.
Прецедентом могли стать собственно процесс Господа Иисуса Христа, гонение Нерона и гонение Домициана, однако процесс Спасителя происходил в период пика террора Тиберия (31-37) [Егоров, 2023, 226-230], вызвавшего самое негативное отношение в исторической традиции; в то, что христиане подожгли Рим в 64 г., не верил никто [Егоров, 2023, 277; Keresztes, 1979, 247–257], а гонение Домициана является в высшей степени нелепым [Keresztes, 1979, 258–278]. Наконец, и Нерон, и Домициан не только оставили по себе крайне негативную память, но и подверглись официальной процедуре damnatio memoriae («осуждение памяти»), что означало официальную отмену их законов и постановлений. Переписка Плиния и Траяна содержит в себе ряд противоречий. Плиний пишет, что не нашел в вере христиан и их действиях ничего, «кроме безмерно уродливого суеверия» (Plin. Epist., 96, 5), однако не упоминает о «преступлении» (flagitium) [Keresztes, 1979, 273–274, 284–287]. Римляне вообще разделяли веру (religio) и суеверие (superstitio), считая, что первое свойственно просвещенной элите, а второе — простому народу. Можно было сколько угодно критиковать простонародные суеверия, но они были неподсудны. Вероятно, можно закончить этот обзор замечанием современного ученого, что если Траяна и Плиния интересовал вопрос о том, что делать с отрекшимися христианами [Keresztes, 1979, 277–278], то для современной науки особенно важен вопрос о том, на каком основании преследовали тех, кто сохранил свою веру, и на этот вопрос не дает ответа ни одно из писем. Трагедия Спасителя постоянно повторялась.
Адриан (117–138) и Антонин Пий (138–161), похоже, пытались решить эту проблему: оба издали эдикты [Keresztes, 1979, 288–289], требуя, чтобы христиан судили только за конкретные преступления, дела рассматривались бы только в суде, а ложные доносы были наказуемы (Eus. НЕ. IV, 3, 6; 26, 10). Возможно, не будь кри-зиcа III в., официальное признание христианства произошло бы раньше, однако кризис изменил всё. Еще одним историческим парадоксом стало то, что время толерантности власти при Антонине Пии сопровождалось волной репрессий, развязанной местными властями и толпами народа [Keresztes, 1979, 292–295]. Империя переставала быть управляемой.
Империя в период от Марка Аврелия до Галлиена напоминает героически обороняющуюся, но отступающую армию, которая закрепляется на каждом рубеже, но каждый раз вынуждена отступать дальше, пока наконец не приходит к тому положению, когда отступать становится некуда. Последовали большие войны Марка Аврелия (161-180), внутренний кризис при Коммоде (180-192), частичная стабилизация при Септимии Севере (193-211) и Каракалле (211-217) и уже постоянное сползание в кризис при Александре Севере (222–235) и в 240–250-е гг., пока «отступление» не достигло пика при Валериане (253-260) и Галлиене (253-260)4.
Христианство переживает как бы «обратный процесс»: гонения при Марке Аврелии и Северах, неожиданное их прекращение при Коммоде и долгий период толерантности от Александра Севера до Деция (222–249), после которого Деций (249–251) и Валериан (253–260) попытались уничтожить христианство, и именно при них произошли самые жестокие репрессии [Sordi, 1979, 345–371]. Среди императоров-гонителей были и такие успешные правители, как Марк Аврелий и Септимий Север. Традиция (в том числе и христианская) пытается доказать, что решения принимали не они сами, а местные власти. Но гораздо чаще преследователями были те императоры, деятельность которых способствовала углублению кризиса. Правление Каракаллы (211–217) закончилось смутой 218–222 гг., правление Максимина Фракийца (235–238) завершилось гражданской войной 238 г. Разгром Деция готами (251) привел к их прорыву на Балканы, а после поражения Валериана (260) империя на время потеряла восточные провинции.
Император Публий Лициний Галлиен (259–268) заслужил очень сложные оценки в современной историографии [Sordi, 1979, 345; Циркин, 2019, II, 51-70]. С одной стороны, именно при нем кризис достиг своего апогея: империя лежала в развалинах, погибли миллионы людей, нашествие варваров было самым сильным за всю историю III в., держава распалась на три части (Пальмирское царство, Галльская империя и центральная власть, которая могла контролировать только Италию), готы прорвались на Балканы, алеманны доходили до Рима, персы хозяйничали в восточных провинциях, а по всей империи появлялись многочисленные узурпаторы, которых один из их биографов остроумно обозначил как «30 тиранов». Казалось, что империи пришел конец.
С другой стороны, именно Галлиен остановил этот кризис. Вероятно, кроме Цезаря, Августа, Траяна и Марка Аврелия, ни один император не одержал такое количество военных побед: разгром франков (254–258), алеманнов (256), квадов и маркоманнов (257), узурпаторов Ингенуя и Релиллиана (258), императора Галльской империи Постума (259–260). В 261 г. он заключил соглашение с Оденатом, а в 268 г. одержал победу над готами. В ряде сравнительно недавних работ убедительно доказано, что именно Галлиен создал ту армию, которая в течение 14 лет, находясь под командованием его военачальников Клавдия II, Аврелиана и Проба [Банников, 2013], полностью восстановила целостность империи и ее границы [Циркин, 2019, II, 71–109].
Именно Галлиен попытался остановить духовный распад империи. Как воин и «язычник», он пошел самым «простым» путем, попытавшись объединить всех богов и все религии империи для ее защиты. Как отмечает Е. М. Штаерман, ни один император не имел такого количества личных богов, в число которых вошли Юпитер, Солнце, Аполлон, Диана, Марс, Геракл, Нептун, Серанис, Либер, Юнона, Сегеция, Янус [Штаерман, 1987, 288–289]. Именно в этом контексте он сделал то, что давно пытались, но не решались сделать его предшественники начиная с Антонина Пия. Христианство стало «дозволенной религией» (religio licita). Евсевий Кесарийский с восторгом пишет об этой реформе Галлиена, считая, что тем самым он подарил христианству 40 лет мира (Eus. HE., VII, 13).
Галлиен, несомненно, ключевая фигура III в. Он остановил наступление варваров, наметил реформу новой империи (см. об этом: [Циркин, 2019, II, 65–70]) и разрешил христианство. В момент смерти Галлиена центральная власть контролировала только Италию, ей угрожали тяжелые битвы и глобальные реформы, но главное было сделано: болезнь не пошла дальше и Римская империя осталась жить. О том, что гибель императора произошла как раз накануне его ответного наступления, показывает быстрота побед его преемников. Уже в 268–269 гг. были разбиты готы, в 270–271 гг. Аврелиан разбил алеманнов и ютунгов, в 272–273 гг. перестала существовать Паль-мирская империя, в 274 г. — Галльская. В 282 г. Проб завершил военную реставрацию, а в 284 г. Диоклетиан приступил к возрождению экономики, социальной и политической системы империи. Галлиену не повезло: лавры военной реставрации достались победителям, его военачальникам Клавдию Готскому, Аврелиану и Пробу, а создателями новой Поздней Римской империи стали Диоклетиан и Константин. На долю Галлиена осталась роль «неудачника», а во многом и «виновника» кризиса, который прекратился сразу после его смерти.
Для истории христианства фигура Галлиена оказалась в тени другого великого полководца и политика — создателя христианской империи Константина Великого. На это были очень веские основания: во-первых, Галлиен только декларировал разрешение христианства (для этого тоже требовалось немалое мужество), после которого, однако, было Великое гонение 305–313 гг., тогда как Константин сделал процесс необратимым; во-вторых, Константин был не только инициатором Миланского эдикта, но и создателем целого блока христианского законодательства, которое легло в основу законодательства новой империи; наконец, Константин стал верующим христианином, принял Крещение перед смертью и воспитал детей как христиан, тогда как Гал-лиен не был христианином и был другом и последователем Плотина. «Открыв путь» христианству, он, похоже, сделал это и в отношении неоплатонизма.