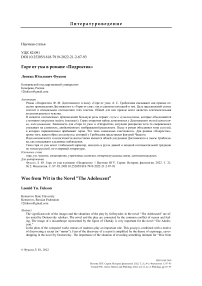Горе от ума в романе «Подросток»
Автор: Фуксон Л. Ю.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 2 т.21, 2022 года.
Бесплатный доступ
Роман «Подросток» Ф. М. Достоевского и пьесу «Горе от ума» А. С. Грибоедова связывают как прямые отсылки произведения Достоевского к «Горю от ума», так и единство ситуаций и тем. Цель предлагаемой статьи состоит в специальном соотнесении этих текстов. Общей для них прежде всего является сентиментальная коллизия разума и чувства.В сюжетах соотносимых произведений большую роль играют слухи о сумасшествии, которые объединяются с мотивом открытия тайны («молвы»). Страх открытия тайны дополняется у Достоевского темой шпионства, подслушивания. Значимость для «Горя от ума» и «Подростка» ситуации раскрытия чего-то сокровенного указывает на сложность, двойственность изображаемой реальности. Пьесу и роман объединяет тема иллюзий, в которых первоначально пребывают герои. Это тема «неведенья счастливого». Для романа «Подросток», кроме того, важен образ мизантропа, который у Грибоедова представлен фигурой Чацкого.Идея неохватности и нелогичности жизни также является общей для романа Достоевского и пьесы Грибоедова, как показывают сделанные наблюдения. Тема горя от ума носит глобальный характер, находясь в русле давней и мощной сентиментальной традиции не только русской, но и мировой литературы.
Горе, ум, чувство, мизантропия, утраченные иллюзии, интертекстуальные связи, сентиментальность
Короткий адрес: https://sciup.org/147235949
IDR: 147235949 | УДК: 82.091 | DOI: 10.25205/1818-7919-2022-21-2-87-93
Текст научной статьи Горе от ума в романе «Подросток»
The significant role of the images and the situations of the play by Griboyedov in the novel “The Adolescent” are often noted by Dostoevsky scholars. The novel and the play are connected by the common conflict of reason and feeling. The image of a misanthrope represented by the figure of Chatsky is very important for the novel “The Adolescent.”
Fukson L. Yu. Woe from Wit in the Novel “The Adolescent”. Vestnik NSU. Series: History and Philology , 2022, vol. 21, no. 2: Philology, pp. 87–93. (in Russ.) DOI 10.25205/1818-7919-2022-21-2-87-93
Значительное место, которое занимают образы и ситуации пьесы Грибоедова в «Подростке» Достоевского, давно отмечалось исследователями романа (скажем, А. Л. Бемом). Из новейших работ, интерпретирующих переклички романа с «Горем от ума», можно назвать, например, небольшую публикацию С. Ю. Неклюдова «Перечитывая роман Достоевского “Подросток”» 1.
Мы рассматриваем этот диалог пьесы и романа в плоскости сентиментальной традиции, в соответствии с которой «ум» героя оказывается «с сердцем не в ладу», причем естественно, что именно сердце оценивается как основа существования, а ум – как то, что отравляет жизнь человека.
Эпизод «Подростка», описывающий собрание либералов у Дергачёва (1, 3, III–V), находит соответствие поданному в пародийном виде рассказу Репетилова о «соке умной молодёжи» (Горе от ума IV, 4) 2. При этом вступление главного героя романа в спор строится по образцу диалога Чацкого и Молчалина, по наблюдению И. Р. Аскаровой и Т. М. Жапловой [2014, с. 202]. Реплика Аркадия «Моё убеждение, что я никого не смею судить» (1, 3, V) почти повторяет слова Молчалина: «Не смею моего сужденья произнесть» (3, 3). На это в обоих текстах следует один вопрос: «Зачем же так секретно?». Подросток говорит: «У всякого своя идея», Молчалин: «…свой талант у всех», после чего как в пьесе, так и в романе, звучит одна и та же вопросительная реплика: «У вас?». Аркадий Долгорукий оказывается здесь в роли недалёкого Молчалина, у которого Чацкий выведывает его подноготную. Это один из моментов, препятствующих упрощённому рассмотрению параллелей пьесы и романа, при котором всё сводится, например, к сравнению Чацкого и Версилова.
В собрании «умной молодёжи» в «Подростке», в частности, обсуждается тезис Крафта о второсортности русского народа (здесь можно увидеть аллюзию на Чаадаева, фигура которого тоже связывает сопоставляемые тексты Грибоедова и Достоевского). Например, когда Крафт говорит о том, что все живут «точно на постоялом дворе и завтра собираются вон из России…» (1, 4, I), то это совпадает с мыслями из первого «философического письма» Чаадаева: «В своих домах мы как будто на постое…». Затем спор с темы России сворачивает на соотнесение разума и чувства, столь важное как для пьесы Грибоедова, так и для романа «Подросток». Таким образом, как мы видим, на «учёный» диспут в романе падает смысловой отсвет «Горя от ума». Причём «ум» и «чувство» оказываются в произведении Достоевского не просто темой обсуждения, а сталкиваются как насмешка, с одной стороны, и обида, с другой, аналогично насмешкам и «оскорблённому чувству», занимающим значительное место в мире пьесы Грибоедова.
В романе «Подросток» звучит тема мизантропии, которая у Грибоедова олицетворяется в одинокой фигуре Чацкого (что особенности видно из его финального монолога – 4, 14) и соотносит его образ с мольеровским Альцестом. Эта тема ассоциируется в романе Досто- евского прежде всего с главным героем, а также с его отцом, как показывают следующие наблюдения.
Аркадий говорит в самом начале своей исповеди: «…порешил отказаться от них всех и уйти в свою идею уже окончательно» (1, 1, VII); «…тотчас же с ними порву, брошу всё и уйду в свою скорлупу!» (там же); «… я и теперь предпочитаю закупориться ещё больше в угол, хотя бы в самом мизантропическом виде: “Пусть я неловок, но – прощайте!”» (1, 2, III); «…я сделал себе угол и жил в углу» (1, 3, III); «Моя идея – угол» (1, 3, IV); «А отчасти моя идея именно в том, чтобы меня оставили в покое» (1, 3, V).
Повторяющийся в словах Подростка образ «угла» напоминает о последних словах Чацкого: «…пойду искать по свету, / Где оскорблённому есть чувству уголок…» (4, 14). И в этой параллели обязательно следует заметить: Чацкий откровенно говорит о том, о чём умалчивает Аркадий, – об «оскорблённом чувстве», которое связывает мольеровского мизантропа с героями Грибоедова и Достоевского. Вот откуда вытекает признание подростка: «…с двенадцати лет (…) я стал не любить людей. Не то что не любить, а как-то стали они мне тяжелы» (1, 5, III).
Образ мизантропа проецируется не только на главного героя романа. Аркадий описывает своего отца: «…я видел высокомерного человека, которого не общество исключило из своего круга, а который скорее сам прогнал общество от себя…» (1, 1, VIII). Это, конечно, полностью применимо и к Чацкому. Версилов говорит в откровенном разговоре Аркадию: «Друг мой, любить людей так, как они есть, невозможно. И, однако же, должно. И потому делай им добро, скрепя свои чувства, зажимая нос и закрывая глаза (последнее необходимо)… Любить своего ближнего и не презирать его – невозможно» (2, 1, IV).
Эта ситуация мизантропического противостояния героя окружающему миру развёртывается в истолковании подростком спектакля «Горе от ума»: «Я с замиранием следил за комедией; в ней я, конечно, понимал только то, что она ему изменила, что над ним смеются глупые и недостойные пальца на ноге его люди. Когда он декламировал на бале, я понимал, что он унижен и оскорблён, что он укоряет всех этих жалких людей, но что он – велик, велик!» (1, 6, III). Такая проекция пьесы на роман, во-первых, организует своего рода художественное уравнение между Чацким и исполняющим его роль Версиловым, а во-вторых – между героем пьесы и сочувствующим ему подростком. Униженность и оскорблённость героя (здесь к описанию Чацкого подключается словарь автора романа «Подросток», что заметил С. Ю. Неклюдов в упомянутой нами ранее статье) контрастно соединяется с его возвышением над окружающими. Напрашивается параллель Чацкий – Версилов , что обосновано в сюжете романа прежде всего упомянутым участием Версилова в любительском спектакле именно в роли Чацкого. Кроме того, А. Л. Бем убедительно сравнивает отношения Версилова к Ахмаковой и Чацкого к Софии [Бем, 2001, с. 43]. Действительно, когда, например, Версилов утверждает, что Ахмакова «обязана иметь все совершенства», а подросток спрашивает, почему, он «злобно» вскрикивает: «Потому что, имея такую власть, она обязана иметь все совершенства!» (3, 8, II). Точно так же рассуждает Чацкий: любовь непременно предполагает совершенство, а такого, как Молчалин («с такими чувствами, с такой душою...»), любить якобы невозможно. И в пьесе, и в романе этот рассудочный тезис опровергается жизнью.
Версилов в задушевной беседе со своим незаконнорождённым сыном (3, 7, II–III) называет себя « скитальцем », в котором следует узнать Чацкого, но также Чаадаева – русского европейца. Известно, что Чацкий был вначале Чадским. Первый вариант не только отсылает – более определённо, чем Чацкий, – к имени Чаадаева, но и к семантике чада , которая связывает эти фигуры – вымышленную и реальную, историческую – с темой сумасшествия. Слово « чад » и его синонимы («наваждение», «сон», «бред», «сумасшествие») множество раз повторяются в романе «Подросток» (см., например: 3, 8, II; 3, 9, I; 3, 12, III).
Один из важных элементов сюжета пьесы Грибоедова – слухи о сумасшествии. В романе подобные слухи на свой счёт подозревает старый князь Сокольский (1, 2, I). При этом сам он в конце насмешливо замечает уже по поводу Версилова: «Итак, наш Андрей Петрович с ума спятил; “как невзначай и как проворно!”» (3, 11, IV). Князь цитирует слова Хлёстовой из «Горя от ума» (3, 21). На эту аллюзию ещё в начале 30-х годов прошлого века указывал А. Л. Бем [2001, с. 44]. В том же ряду находится фраза Крафта о том, что лучшие люди «теперь все помешанные» (1, 4, I). Татьяна Павловна в сердцах отзывается о Подростке, что его «за помешанного аттестовали» (1, 8, III). Барон Р. заявляет Версилову, что его «аттестовали» «настоящим помешанным маньяком» (2, 8, IV). Сам Аркадий называет своего отца сумасшедшим (3, 10, III). И т. д.
Образный ряд слухов о сумасшествии объединяется в романе Достоевского с мотивом страха открытия тайны («молвы»). Дочь опасается разоблачения в глазах отца: в романе Ахмакова страшится обнародования своего письма насчёт возможной опеки над отцом, в пьесе София боится, что Фамусову станут известны её амуры с Молчалиным, который, в свою очередь, восклицает: «Ах! злые языки страшнее пистолета» (2, 11), а в романе «Подросток» князь Сокольский сетует: «Люди – злые языки …» (2, 8, II). Боязнь молвы звучит в сентенции Лизы «Грех не беда, молва не хороша» (1, 5), а в финале пьесы Фамусов укоряет дочь:
А ты меня решилась уморить?
Моя судьба ещё ли не плачевна?
Ах! боже мой! что станет говорить
Княгиня Марья Алексевна!
Страх открытия тайны дополняется у Достоевского темой шпионства , подслушивания , выведывания , развёртывающейся во множестве эпизодов романа: подслушивающий у дверей соседок Васина Стебельков (1, 8, II); нечаянно услышанный Аркадием разговор Ахмаковой и Татьяны Павловны, в котором Катерина Николаевна называет Подростка petit espion (1, 8, III); Стебельков предлагает Аркадию шпионить на него (2, 3, I); Лиза убеждает брата в том, что Анна Андреевна хочет у него «выведать» тайну (2, 3, IV); также Ахмакова выспрашивает у Подростка, что он знает о компрометирующем её письме, а он сам признаётся, что ожидал увидеть в ней «выведывающую змею» (2, 4, II). По сути, все персонажи, как бы группируясь вокруг Подростка, охотятся за документом, которым он обладает, и шпионят за героем, например, хозяева квартиры (3, 10, I), а также Альфонсинка и Ламберт, которых обвиняет сам Аркадий (3, 9, V), но, в свою очередь, Ламберт называет Подростка шпионом (3, 11, I), а в казино у Зерщикова герой грозит донести на всех в полицию (2, 8, VI). Аркадий подслушивает разговор Версилова и Ахмаковой (3, 10, III–IV), да и план героя уличить Ахмакову, который он излагает Ламберту, тоже строится на подслушивании (3, 11, I). «Она – правдивая и честная, а я – я шпион и с документами!» – с горечью признаётся Подросток (3, 11, I). В финальной сцене читатель видит двойное подслушивание разговора Ламберта с Катериной Николаевной – Версиловым и Аркадием (3, 12, V). Это совершенно аналогично двойному подслушиванию в финале «Горя от ума». И в сюжетах обоих произведений эти сцены играют аналогичную роль горестной развязки.
Значимость для «Горя от ума» и «Подростка» ситуации раскрытия чего-то сокровенного указывает на сложность, двойственность изображаемой реальности. Пьесу и роман объединяет тема иллюзий, в которых первоначально пребывают герои, тема «неведенья счастливого». Например, Подросток называет себя «слепым кротом» (2, 3, IV). Двухлетние отношения Версилова с Ахмаковой называются «наваждением», «сном», «чадом», «видением» (3, 8, II). Так же видит свою любовь Чацкий: «…отрезвился я сполна…» (4, 14). «Это был чад…», – говорит о себе Версилов, имея в виду свой порыв откровенности перед сыном. Подросток признаётся: «Всё это было давно; но всё это и теперь для меня как мираж» (2, 4, I). В пьесе Чацкий говорит о себе: «Мечтанья с глаз долой – и спала пелена». Герой же романа заявляет: «С него надо сорвать пелену», имея в виду Версилова. Утрата иллюзий – таков основной сюжетный параллелизм пьесы и романа. Скажем, мнение Катерины Николаевны о «благоразумии» брака по расчёту с Бьорингом исчезает «как дым» (3, 13, I). Конечно, ситуация горького прозрения в наибольшей степени связана с главными героями «Горя от ума» и «Подростка», но и организует весь художественный мир каждого из обоих произведений.
Очень много места в романе «Подросток» уделено соотнесению идей и чувств (например, уже упомянутый ранее спор у Дергачёва: 1, 3, III). Текст Достоевского связывает с пьесой «Горе от ума» тема книжных мыслей и теоретичных (« бумажных ») людей и поступков . Крафт замечает: «Я не понимаю, как можно, будучи под влиянием какой-нибудь господствующей мысли, которой подчиняются ваш ум и сердце вполне, жить ещё чем-нибудь, что вне этой мысли?» (1, 3, III). Самоубийство доказывает его слова, причём Аркадий тоже живёт под влиянием «господствующей мысли», хотя постоянно «уклоняется» от неё, демонстрируя то, что он как человек шире «идеи». Подросток признаётся, что идея «поглотила» всю его жизнь (1, 1, VII). «Уйти в свою идею» – его версия горя от ума.
Ахмакова называет Версилова «книжным», «бумажным» человеком (3, 8, II), и это, конечно, напоминает о Чацком, который «говорит, как пишет».
В зоне коллизии ума и сердца строится в романе, например, образ Васина, который проецируется парадоксально в одно и то же время на фигуры Молчалина и Чацкого. Пассаж Аркадия о том, как бесит его комната Васина (1, 8, II), отсылает к молчалинским талантам – «умеренности и аккуратности». Любовный же треугольник Васин – Лиза – князь Сокольский подобен треугольнику пьесы: Чацкий – София – Молчалин . Васин осуждает князя, а Чацкий высмеивает Молчалина, что не нравится соответственно Лизе и Софии. При этом Васин убеждает Лизу в «неразумности» её любви (3, 4, II), что совершенно аналогично взглядам Чацкого, убеждённого, что любить можно не иначе как за достоинства. Поэтому в любовь Софии к Молчалину он не верит: «Шалит, она его не любит» (3, 1). Даже Аркадий с его идеей «рот-шильдовского» уединения и могущества говорит о «страшной теоретичности и совершенном незнании жизни» Васина (3, 4, II). Но при этом сам главный герой романа удивляется тому, как полюбили друг друга Версилов и его мать, аналогично тому, как Чацкий удивляется и не верит влюблённости Софии. Он же не верит, что его сестра Лиза «могла такого полюбить» (2, 7, I), подразумевая князя Сокольского. Конечно, последний не Молчалин, но сходство тут в самой мысли, что можно полюбить «за» что-то: «…за что ты его полюбила?».
Герой романа говорит: «Любовь надо заслужить», на что его мать отвечает: «Пока-то ещё заслужишь, а здесь тебя и ни за что любят» (2, 5, I). Таким образом, Подросток думает о любви так же, как Чацкий. Ламберт, пытаясь подделаться под эту книжную логику главного героя, доказывает Аркадию, что Ахмакова должна ответить на его любовь: «…Ты красив, ты воспитан… Ты одет хорошо… И ты добрый… Почему же ей не согласиться?» (3, 6, I). Ламберт вообще ловит Аркадия на «идеи». Он высказывает подростку его же мысли, например, о том, что деньги уравнивают («Это ты хорошо сейчас сказал про капитал…», – признаёт Аркадий), о том, что «женщина любит деспотизм» (3, 6, I). Читатель романа замечает, что постоянно все персонажи угадывают мысли героя: он не может их скрыть. Эта коллизия взрослой скрытности и детской наивности важна для образа Подростка и сентиментальной интенции произведения Достоевского.
Аркадий Долгорукий убеждён, «что в азартной игре, при полном спокойствии характера, при котором сохранилась бы вся тонкость ума и расчёта, невозможно не одолеть грубость слепого случая и не выиграть…» (2, 6, II). Это преувеличение возможностей ума и расчёта перед лицом неисчерпаемости и непредсказуемости жизни тоже объединяет героя с Чацким.
Тема неохватности и нелогичности жизни является общей для романа Достоевского и пьесы Грибоедова. Нередко в романе «Подросток» фигурирует понятие «широкость». Например, Крафт отзывается об Андроникове как о человеке «хоть и широкого ума, но и “широкой совести”» (1, 4, II). Аркадий размышляет об удивительной способности человека, в особенности русского, «лелеять в душе своей высочайший идеал рядом с величайшею подлостью, и всё совершенно искренно. Широкость ли это особенная в русском человеке, которая его далеко поведёт, или просто подлость – вот вопрос!» (3, 3, I). То же значение понятия широкости можно увидеть в мыслях Подростка о том, что такая «неприступная и высшая особа, как Анна Андреевна», могла связаться с таким мерзким мошенником Ламбертом «из широкости» (3, 4, I), и сам он слушает Ламберта «из широкости»; или: «Ничего, коль с гряз-нотцой, если цель великолепна! Потом всё омоется, загладится. А теперь это – только широкость…» (3, 6, I–II). Это последнее рассудочное оправдание указывает на то, что во всех подобных случаях понятие «широкость» в романе есть перифраз свободы от «сужающих» нравственных обязательств.
Однако когда Аркадий говорит о том, что умеет «быть, когда надо, и уступчивым и широким» (3, 3, I), то здесь подразумевается способность отнестись с пониманием к человеку «совершенно иных понятий и воззрений»: человек больше, шире убеждений. Великодушие, умение прощать Подросток называет «умом сердца» (3, 3, I), что совершенно противоположно широкости как нравственной индифферентности. Или когда Версилов говорит об «исторической широкости» русского народа (1, 7, II), это перекликается с понятием «всемирной отзывчивости» из Пушкинской речи Достоевского, т. е. опять же имеется в виду широта понимания.
В сюжете романа «Подросток» значительное место занимают воспоминания о счастливом юном возрасте Аркадия (до пансиона Тушара), смыкающиеся с образом «золотого века» человечества, который Версилов увидел в картине Клода Лоррена «Асис и Галатея» (3, 7, II). Это также тема пьесы Грибоедова: «Где время то? где возраст тот невинный…», – пускается в элегические воспоминания Чацкий (1, 7). Элегическая интонация сожаления о прошедшем невинном детстве также объединяет обсуждаемые произведения.
В заключение отметим, что при проводимом нами соотнесении дело состоит не только в совпадении ситуаций романа «Подросток» и пьесы «Горя от ума», но и прежде всего в смысле самого этого многозначного выражения. С одной стороны, вряд ли найдётся художественное произведение, на которое в такой степени повлияла пьеса Грибоедова и в котором присутствуют постоянные прямые отсылки к ней, как в романе «Подросток». Однако, с другой стороны, сама тема горя от ума носит гораздо более глобальный характер, затрагивая давнюю и мощную сентиментальную традицию не только русской, но и мировой литературы.
Список литературы Горе от ума в романе «Подросток»
- Аскарова И. Р., Жаплова Т. М. Аллюзии и реминисценции из комедии "Горе от ума" А. С. Грибоедова в позднем творчестве Ф. М. Достоевского // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2014. № 8-1. С. 199-203.
- Бем А. Л. Исследования. Письма о литературе. М., 2001. 448 с.