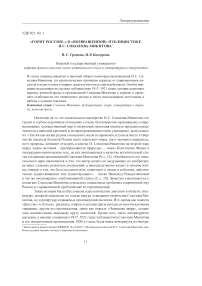"Горит Россия!.." О "возвращенной" публицистике И. С. Соколова-Микитова
Автор: Громова Полина Сергеевна, Косоурова Надежда Романовна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 3, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье впервые вводятся в научный оборот некоторые произведения И. С. Соколова-Микитова, по идеологическим причинам скрытые от современников писателя и недоступные в первые десятилетия после советской власти. Особое внимание исследователи уделили публицистике 1917–1921 годов, которая дополняет картину военной прозы и произведений Соколова-Микитова о деревне и проясняет особенности его творческого метода в части использования источников и работы с чужими текстами.
Соколов-микитов, публицистика, очерк, литература о деревне, военная проза
Короткий адрес: https://sciup.org/146122058
IDR: 146122058 | УДК: 821.161.1
Текст научной статьи "Горит Россия!.." О "возвращенной" публицистике И. С. Соколова-Микитова
Несмотря на то, что писательское мастерство И. С. Соколова-Микитова, его талант и глубоко вдумчивое отношение к языку безоговорочно признавались современниками, художественный мир и творческая эволюция писателя преподносилась читателю советской критикой и литературоведением очень упрощенно, выхолощен-но. «Так же как малая родина смоленских лесов со временем уступила место в творчестве писателя большой Родине всего советского мира, так и человек-созерцатель, поэт природы, начинает отходить в книгах И. Соколова-Микитова на второй план перед лицом человека – преобразователя природы», – писал Константин Федин в литературно-критическом эссе, не раз печатавшемся в качестве вступительной статьи к изданиям произведений Соколова-Микитова [9, с. 13]. «Особенность его писательского дара заключается в том, что автор ничего не выдумывает, не изобретает, не ищет сложных сюжетных построений, а непосредственно входит в течение жизни, говорит о том, что было на самом деле, повествует о людях и событиях, действительно существовавших или существующих», – писал Всеволод Рождественский в так же неоднократно опубликованной статье [5, с. 24]. Зачастую умалчивалось о попытках Соколова-Микитова осмыслить социальные проблемы современной ему России и о нравственной проблематике его произведений.
Такая позиция была обусловлена идеологическим диктатом в области литературы, который определил не только ракурс освещения творчества Соколова-Ми-китова, но и репертуар издаваемых произведений писателя. В то время как повести «Детство» и «Елень», рассказы, очерки и детская проза выходили многотысячными тиражами, другие его произведения, такие как повесть «Чижикова лавра», оставались неизвестными широкому кругу читателей. Кроме того, часть литературного наследия, а именно созданная в 1917–1921 годах публицистика Соколова-Микитова и его неоконченные произведения 1920-х годов, была вовсе вычеркнута из биогра фии писателя – не публиковалась и не становилась объектом литературоведческих исследований. Впервые эти произведения увидели свет сравнительно недавно, в трехтомном собрании сочинений И. С. Соколова-Микитова, вышедшем в свет в 2006 году [8], а также в изданной в 2010 году книге «Возвращение» [6]. Они не исследовались до сих пор. Между тем специальное изучение этого материала и его интеграция в идейный и жанрово-стилистический контекст всей прозы Соко-лова-Микитова позволят, наконец, увидеть полную картину творчества писателя в ее целостности и динамике, а также проследить формирование его жизненной и литературной позиции, которое, как выясняется, было куда более сложным и драматичным, чем принято считать.
Впервые увидевшие свет ранние произведения Соколова-Микитова в трехтомном собрании сочинений объединены в разделе «Из неопубликованного» [8]. В книге «Возвращение» они цитируются по предыдущему изданию, но представлены уже двумя блоками – «Публицистика 1917–1921 гг.» (довольно большой корпус текстов) и «Отрывки из неоконченных произведений 1919–1920 гг.» (сюда помещены главы из недописанной повести о Севастополе и лирико-философская миниатюра «Дороги», сохранившийся набросок к ненаписанному роману «Прорва»). Их дополняют три впервые публикуемые рассказа Соколова-Микитова о Великой Отечественной войне.
Произведения, включенные в раздел «Публицистика 1917–1921 гг.», действительно, впервые публиковались именно в газетной периодике и уже демонстрируют особенности стиля Соколова-Микитова, в котором очень сильно публицистическое начало. В частности, события, положенные в основу произведений, излагаются конспективно и со стремлением к объективности. Как правило, вербализованная оценка описываемого отсутствует, однако сам выбор материала и ракурс его освещения все-таки позволяют говорить о наличии авторской позиции, о глубоко неравнодушном отношении писателя к происходящему. При этом особое значение приобретают точные, символические детали. Например, автор склоняется к тому, чтобы обобщить место и время описываемых событий. Это уже не Россия, которую он знал и любил, поэтому в рассматриваемых произведениях встречаем множество вариантов. В первую очередь это «горящая Россия» 1917 года, закономерно превращающаяся в «великое пожарище». Далее, очевидно, возникла необходимость подобрать эвфемизм для нового официального названия страны. Соколов-Микитов колеблется между вариантами: «Совроссия» и «Совдепия» (вариант – «великорусская деревенская совдепия», со строчной буквы). Автор отмечает, что уже есть некая общность новых людей: «Кто долго жил в Совдепии, наблюдал и присматривался» и, по-видимому, разобрался с укладом новой жизни. Прежде всего этот уклад заключается в переработке, «переиначивании» на свой лад всех директив и посулов новой власти.
К публицистике восходит и лексическая эклектика текстов Соколова-Мики-това. Однако в то же время в его произведениях наблюдается отношение к речи как к предмету изображения, прежде всего к речи народной с ее богатством, разнообразием и выразительностью, за сохранение которых так ратовал писатель на протяжении всей жизни.
Большую часть упомянутых произведений можно так или иначе отнести к жанру очерка. Это очерки с редуцированным сюжетом или основанные на сюжетных эпизодах: «Смута», «Красные помещики», «Легенды», «В деревне», «Великое пожарище», «Мать-земля», «Коленопреклоненные», «В чем их сила», «Охранная грамота». Основная проблематика их – бедствие, которым обернулась революция для русской деревни, и молчаливый, но настойчивый протест народа против новой власти. Рефреном звучит мысль о том, что повсюду воровство, самоуправство, безграмотность и бескультурье. Детальное, проникнутое сожалением и любовью изображение деревни позволяет поставить эти произведения в один ряд с текстами, которые неоднократно публиковались в сборниках Соколова-Микитова и благодаря этому находились в центре внимания исследователей. Прежде всего это рассказы о деревне из сборников «На теплой земле» и «На речке Невестнице». А проблематикой бедствия очерки перекликаются с остальными произведениями этого периода, относящимися к другим жанрам. Так, «С тумбы», «Крик», «Вы повинны» представляют собой лирические миниатюры-манифесты, посвященные переживаниям за судьбу России. Общим заголовком «Исподнее» объединены три сюжетных зарисовки, изобличающие жестокость послереволюционного времени и, главным образом, людей, пришедших к власти: «Я посмотрел на черного человека с бантом, убившего беременную женщину, и узнал: недавно в цирке он говорил перед многотысячной толпой, и толпа вынесла его на руках. Теперь он ехал во дворец делать доклад, и лицо его было непоколебимо: он обдумывал» (в данном случае слово убил употреблено И. С. Соколовым-Микитовым в значении «сильно ударил», характерном для крестьянской речи начала XX в.). Не случайно упоминание огромного красного банта, являющегося знаком принадлежности к большевистской партии, а также места, где состоялось выступление. В эссе «Великое пожарище» в назидание пришедшим к власти «ублюдкам» будет сказано о судьбе Лжедмитрия, над телом которого глумились после смерти. «Маска, дудка и волынка… – должны запомнить нынешние создавшие кровавый всероссийский балаган», – пишет Соко-лов-Микитов [Там же, с. 49].
В этот период Соколов-Микитов создавал и публиковал много произведений на военную тематику. В сборниках разных лет широко представлены рассказы 1915–1920 годов о буднях санитарного отряда («Здесь и там», «С носилками») и военной авиации («Глебушка», «На воздушном корабле»), о проблемах тыла («Безлюдье», «Концов ищут»), о творческих порывах человека в мрачных условиях военного времени («Шепот цветов», «Поэт и серый кот»). Читатель привык, что в них нет кровавых деталей и хоть сколько-нибудь противоречивой оценки происходящего. Однако в публицистике того же времени обнаруживается взгляд на военных как на убийц и разбойников («Коленопреклоненные») и даже горький вывод о победе в конечном итоге немцев над погрязшим в междоусобице народом («Горящая Россия»). По очеркам Соколова-Микитова этого периода можно проследить, как контрреволюционные высказывания вытесняются высказываниями общей пацифистской направленности: «Ежели теперь спросить у трудового русского человека, два года несущего гнет «пролетарской диктатуры»:
– Чего же хочешь ты прежде всего? – он искренне ответит:
– Я откажусь от посуленной земли, которую теперь нечем запахать и засеять, от «свободы», которая оказалась разбоем и пропадом, от «власти трудящихся», которая стала произволом архаровцев и привела к смертной голодухе и нескончаемой войне. Мне нужно одно: мир. Дайте мне мир! – надрывно скажет трудовой русский человек, ударив себя в грудь и став на колени» [6, с. 58–59]. Именно поэтому тематика рассматриваемых очерков не ограничивается «опорными» точками военной прозы Соколова-Микитова, а расширяется за счёт описания неудачной мобилизации и множества примеров дезертирства.
Действительность времен гражданской войны и первых лет советской власти изображается негативно. Перед читателем проходит целая галерея уродливых портретов «горланов», «архаровцев» и «революционных мясников», присвоивших власть над недалеким в политических вопросах народом. В этом обличении Со-колов-Микитов не знает компромисса: «Вглядитесь в портрет верховного вдохновителя большевизма – сытость, хитренькая круглота и беспредельное самодовольство, – три психологических стержня, на которые прочно насажен российский большевизм» [8, с. 52–53]. Полны едкой злобы и «политические сказочки» Соко-лова-Микитова этого периода – «Съели» и «Налим». Даже в единственном написанном в это же время юмористическом очерке «Медынь», свидетельствующем о стремлении Соколова-Микитова освоить и эту область, юмор вытесняет жесткая сатира, когда повествование о «стародавних» временах сменяется изображением современности. Лишь в одном очерке («В чем их сила») писатель признается, что новая власть принесла перемены, к которым уже привыкли, и люди не хотели бы возвращаться к прежнему. Но перемены эти кажутся незначительными по сравнению с подрывом самих основ народной жизни. Есть и более существенное противоречие в изображении русской действительности этого периода. Деревня представляется двойственной: неграмотной, разоренной, угнетенной, но в то же время являющей собой тихую, но могучую силу («В деревне»). Неоднократно и с чувством глубокого удовлетворения Соколов-Микитов подмечает, как возвращаются к земле и мирному труду бывшие солдаты, в том числе дезертировавшие, и те, кто еще несколько лет назад «с крылец» кричал о революции и власти пролетариата.
Исследователи приходят к выводу, что проза о деревне начала XX века имеет три тематических «ядра»: дореволюционная деревня, гражданская война, гибель патриархальной деревни [1]. Соколов-Микитов прослеживает переход деревни из одной ипостаси в другую, чувствуется его потребность объединить (а значит, объяснить) происходящие вокруг безумные, противоречивые события в единую хронологию. Такие попытки предпринимаются в очерках «Коленопреклоненные», «В чем их сила», «Великое пожарище» и нагляднее всего удаются тогда, когда писатель использует в качестве модели всей России местечко Медынь в одноименном очерке. В этих произведениях можно, не погружаясь в водоворот частных сюжетов, проследить, как торжествующая на первых порах деревня погружается в растерянность и подозрительность вплоть до вражды, а затем преклоняет колени, то есть смиряется в христианском смысле.
В рассказах и очерках, созданных позднее, в 1920-х годах, пессимизм пореволюционных лет Соколовым-Микитовым преодолевается. Например, в рассказе «Пыль» автором изображается благополучная, сытая пореволюционная деревня (колосья ячменя аж «черные» от тучности). Крестьянская жизнь идет своим чередом, в ней есть место не только труду и веселью, но и пьянству и злобе, но это уже мирная, а значит, в целом, благополучная жизнь. Даже судьба сына разоренного помещика на фоне этой жизни не выглядит драматично. А в дальнейшем Соколов-Микитов будет представляться советскому читателю писателем и вовсе вполне «благонадежным».
Позиция Соколова-Микитова относительно советской власти формировалась постепенно. Революцию он встретил как человек, не понаслышке знакомый с ситуацией на фронтах Первой мировой и в тылу. Первое время писательский долг побуждал его собирать материал на малой родине, а уже в 1919 году писатель в составе продовольственной делегации отправился по маршруту Смоленск – Киев – Смоленск и получил возможность взглянуть на происходящее со стороны. В резуль- тате получилось противопоставление «советской» России и «сытого» юга, которому, с его «искренним» большевизмом, автор желает скорее переболеть этой болезнью и избавиться от иллюзий. Так появилась часть произведений для публикации в «белой» периодике. Кроме того, можно говорить о влиянии ближайшего окружения Соколова-Микитова в период его вынужденной эмиграции в 1921–1922 годах, настроенного по отношению к советской власти или скептически, или негативно. В дальнейшем, со сменой круга общения, меняется и позиция писателя.
Но главная причина подобных перемен в мировоззрении заключалась, как нам представляется, в природе сознания самого Соколова-Микитова. Выросший в среде русского крестьянства, в семье с патриархальными устоями, писатель не мыслил категориями личного интереса. На протяжении всей жизни он ощущал себя частью человеческой общности, «мира», в котором коллективный интерес всегда преобладает над личным. Соколов-Микитов, за недостаточную идеологизирован-ность и политическую неангажированность в 1920–1930-е годы отнесенный пропартийной литературной критикой к числу «попутчиков», не относился к тем, кто был готов бездумно пропагандировать новый режим – к числу тех самых «горланов», о которых писатель неоднократно резко высказывается в своих ранних очерках. Вместо этого он старался уловить, куда, в какую сторону движется сам «мир», и, проникаясь его настроениями, двигаясь вместе с ним, говорить о его простых радостях и насущных проблемах, о самой жизни людей.
Возможно, этим отчасти обусловлена и та публицистичность, отстраненность, с которой Соколов-Микитов ведет повествование, которая вовсе не означает равнодушие к изображаемому. Ведь, как известно, в традиционном искусстве, в народном творчестве личностное начало редуцировано, превалирует начало коллективное. Вместе с тем «мир» для Соколова-Микитова не безликая масса, как понимала народ новая советская власть. Писатель создает множество ярких, достоверных, харизматичных портретов простых людей, с которыми ему довелось видеться и общаться, и тем самым утверждает, что за каждым фактом жизни общества стоят живые, настоящие люди.
В общем ряду произведений 1917–1921 годов выделяются «Горящая Россия» – обзор писем, приходивших в Думу, с комментариями Соколова-Микитова, написанный по рекомендации А. М. Горького для газеты «Вольность», и развернутое эссе «Великое пожарище». Обращение к документу, дословное цитирование источника в целом характерно для творчества Соколова-Микитова. Например, в повести «Спасание корабля» приводится телеграмма, полученная от Горького, а в мемуарных очерках и статьях из цикла «Давние встречи» обильно цитируются письма и другие личные документы людей, с которыми Соколов-Микитов был знаком, а также письма и дневники русских писателей XIX в., в частности, И. С. Тургенева. Эта особенность творчества Соколова-Микитова сформировалась именно в ранней прозе, и два упомянутых произведения позволяют проследить освоение писателем приема цитирования.
В «Горящей России» с первых же строк автор признает сложность поставленной перед ним задачи: «По письмам, лежащим сейчас передо мною, нелегко изобразить зыбкую линию хода революции, думаю, невозможно. Слишком неодинаково понимали люди смену событий. В письмах слишком много субъективного» [8, с. 23]. Письма с мест иллюстрируют тенденцию раскола в обществе. Город противопоставляется деревне, забота о мировом Интернационале – попыткам выжить в пропитанной враждебностью среде. Тем не мене, писателю все-таки удается вы- делить основной вектор народных стремлений: «Земли! Земли! – проносится над горящей Россией». Кроме того, он четко формулирует общую для города и для деревни беду: «Открылась беда, страшнее всякого голода, мора и проказы, – безлюдье. – Нет людей! – вопят в письмах». «Безлюдье» (одноименный очерк вышел в том же году в газете «Воля народа») особенно актуализировалось в языке и в литературе к 1917 году (именно это значение встречаем у многих современников, от мемуаров В. П. Аничкова до поэзии В. В. Маяковского).
Перед нами письма людей разного положения и с разными взглядами на мир, среди названных корреспондентов восемнадцатилетний юнкер, делегат съезда, деревенская портниха… Для автора важно, что люди не разорвали связь с природой, связь эта вольно или невольно подчеркивается в этом очерке и других публицистических материалах. В России общественные настроения в некоторой степени подчиняются традиционному укладу: молодости свойственен оптимизм, весной больше веры, чем осенью, и т. д. Однако общий тон повествования, подчеркнутый символикой пламени, оказывается трагическим: «Горит Россия! – вот смысл и содержание огромного большинства писем, – горит Россия, голодная в своих бескрайних полях, убитая, темная, обманутая, стосковавшаяся по миру, и не мир – кровь, насилие, за-продажность оплели ее красным: “горит!”» [Там же]. Обильное цитирование, подразумеваемое самим жанром произведения, служит также и для утверждения авторской позиции: такой власти, такому порядку не место на Руси.
В эссе «Великое пожарище» цитирование выполняет иную задачу. Обращаясь к «Повести временных лет», записям патриарха Гермогена, «декретам» Емельяна Пугачева и свидетельствам побывавших в России иностранцев, Соколов-Микитов воссоздает образ повторяющейся истории, непрерывности исторического процесса. Автор подводит читателя к мысли о необходимости извлечения из истории уроков и более глубокого понимая общественно-политических процессов, необходимости более вдумчивой оценки их перспектив.
Кроме того, здесь обнажается эпическое начало творчества самого Соколо-ва-Микитова, которое позднее проявится и в стремлении компоновать малую прозу в сложные, многоплановые циклы, и в попытках создания крупных сюжетных произведений. Соколова-Микитова, как когда-то и Чехова, литературные критики упрекали в том, что он не написал романа. Однако теперь нам известно о замысле еще как минимум двух крупных произведений – повести о Севастополе и романа о пореволюционной деревне. Таким образом, мы все же можем говорить о стремлении Соколова-Микитова к охвату в своем творчестве значительных исторических событий и периодов. В пользу масштабности писательского мышления говорит и содержание ряда других произведений. Небольшое эссе «Могу и смогу», относящееся к этому же периоду, посвящено русскому языку и его исторической судьбе. В глубоко лирическом стихотворении в прозе «Вой», по неизвестной причине помещенном в цикл «политических сказочек», и в отрывке «Дороги» из ненаписанного романа «Прорва» Соколов-Микитов окидывает взглядом всю русскую историю и историю самой человеческой цивилизации. Писатель стремится осмыслить место человека на земле и выразить всю трагичность человеческого существования. Эта универсальная проблематика так или иначе будет присутствовать во всех последующих произведениях Соколова-Микитова и особенно полно воплотится в его позднем лирико-философском цикле миниатюр «Из записных книжек».
Таким образом, процесс возвращения русской литературы, начавшийся и наиболее интенсивно проходивший в 1990-е годы, еще продолжается. Возвращен- ные читателю произведения Соколова-Микитова, этот своеобразный «документ эпохи», дополняющий наше представление об одном из самых сложных периодов русской истории, вместе с тем должны рассматриваться и как органичная часть тверского литературного процесса, активно изучаемого в наше время [2; 3; 4] во всем его многообразии и на протяжении различных сменяющих друг друга эпох.
Список литературы "Горит Россия!.." О "возвращенной" публицистике И. С. Соколова-Микитова
- Лебедева С. Н. Проза крестьянских писателей 1920-х-1930-х годов: проблема рецепции в современном литературоведении//Вестник Волжского ун-та им. В.Н. Татищева. 2010. № 6. С. 40-46.
- Лосева Н. В. Связь древности и современности в повести Ю. В. Красавина «Великий мост»//Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2014. № 1. С. 303-307.
- Николаева С. Ю. «Когда минет злоба дня и настанет будущее…»: новые книги тверских поэтов и литературный процесс//Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2016. № 3. С. 68-81.
- Редькин В. А. Вячеслав Шишков: новый взгляд. Очерк творчества В. Я. Шишкова. Тверь: Тверское обл. кн.-журн. изд-во, 1999. 152 с.
- Рождественский В. Богатство видения//Жизнь и творчество И. С. Соколова-Микитова. М.: Детская лит., 1984.
- Соколов-Микитов И. С. Возвращение. М.: Худож. лит., 2010. 840 с.
- Соколов-Микитов И. С. Собр. соч.: в 3 т. М.: ТЕРРА-Книжный клуб, 2006.
- Соколов-Микитов И. С. Собр. соч.: в 3 т. Т. 3: Ранние рассказы; Из неопубликованного; Воспоминания; На своей земле; Записные книжки и письма. М.: ТЕРРА-Книжный клуб, 2006. 464 с.
- Федин К. Иван Соколов-Микитов//Жизнь и творчество И. С. Соколова-Микитова. М.: Детская лит., 1984. 238 c.