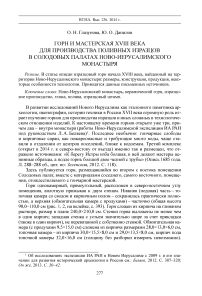Горн и мастерская XVIII века для производства поливных изразцов в солодовых палатах Ново-Иерусалимского монастыря
Автор: Глазунова О. Н., Данилов Ю. О.
Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran
Рубрика: Новое время
Статья в выпуске: 236, 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье описан изразцовый горн начала XVIII века, найденный на территории Ново-Иерусалимского монастыря: размеры, конструкция, продукция, некоторые особенности технологии. Приводятся данные письменных источников.
Ново-иерусалимский монастырь, керамический горн, изразцовое производство, глина, полива, изразцовый штамп
Короткий адрес: https://sciup.org/14328088
IDR: 14328088
Текст научной статьи Горн и мастерская XVIII века для производства поливных изразцов в солодовых палатах Ново-Иерусалимского монастыря
В развитии исследований Нового Иерусалима как эталонного памятника археологии, иконографии, истории техники в России XVII века огромную роль играет изучение горнов для производства изразцов и иных сложных в технологическом отношении изделий. К настоящему времени горнов открыто уже три, причем два – внутри монастыря (работы Ново-Иерусалимской экспедиции ИА РАН под руководством Л. А. Беляева) 1. Последнее необычно: гончарные слободы и кирпичные сараи, как пожароопасные и требующие много воды, чаще ставили в отдалении от центров поселений, ближе к водоемам. Третий комплекс (открыт в 2014 г. к северо-востоку от въезда) именно так и размещен, что отражено источниками: «К берегу Истры изба болшая, в ней делают мастеры це-нинные образцы, а подле горнъ болшой двое челной с трубы» (Опись 1685 года. Л. 288–288 об., цит. по: Зеленская , 2012. С. 118).
Здесь публикуется горн, размещавшийся во втором с востока помещении Солодовых палат, вместе с материалами соседнего, самого восточного, помещения, отождествляемого с гончарной мастерской.
Горн однокамерный, прямоугольный, расположен в северо-восточном углу помещения, вплотную примыкая к двум стенам. Нижняя (подовая) часть – топочная камера со сводом и кирпичным полом – сохранилась практически полностью, а верхняя (обжигательная камера с продухами) – частично (общая высота 90,0–110,0 см (рис. 1, 2, на вклейке, с. 393). Горн сложен из кирпича на глиняном растворе, размер в плане 240,0×210,0 см. Стенки горна выложены не менее чем в один кирпич; западная стенка с устьем значительно шире за счет прикладки (также в один кирпич), не перевязанной с собственно стенкой. Обжигательная камера (с продухами 9,5×15,0 см) сложена из кирпича размерами 28,0×13,0×6,0 см, топочная камера – из кирпича 30,0×15,5×8,0 см и 29,0×13,5×8,0 см, кирпич пода топочной камеры 32,0×16,0 см (толщину без разборки измерить невозможно).
Устье топочной камеры арочной формы, расположено в западном фасе (ширина внутреннего устья 45,0 см, высота 54,0 см).
По оси с печью, с запада от устья, располагалась предгорновая яма или, скорее, крошечный дворик прямоугольной формы (в плане 300–310×180–140 см). Он вытянут с запада на восток и ограничен стенкой на глиняном растворе, сложенной в полкирпича, в том числе из обломков, на тонком неглубоком фундаменте из мелкого булыжника. В северо-восточном углу дворика лежит очень большой валун – неясно, оставлен он здесь при строительстве, как слишком тяжелый, или уложен специально и использован как опора северо-западного угла горна; второй валун, меньшего размера, заложили в устье горна, перекрыв его. Большая часть горна, по крайней мере, предгорновый дворик и топочная камера, находилась ниже уровня пола помещения. Спуск во дворик вел с юга, по лестнице шириной около 1,30–1,35 м, с 3–4 ступенями. Пол дворика земляной, в его северо-восточной части отмечен золистый выброс из горна.
По-видимому, свод топочной камеры был арочным. Куда выходила труба (если она была), неясно – возможно, тепло горна использовалось для обогрева помещения или даже для сушки солода. Отметим, что похожий горн для обжига изразцов (очень плохой сохранности) в Суздальском Спасо-Евфимиевом монастыре, тоже примыкал к тамошним Солодовым палатам ( Глазов, 1986. С. 8). Для закладки продукции на обжиг разбирали, вероятно, западную стенку камеры или ее часть.
Прямоугольная форма горна может быть связана с его основным предназначением – производством изразцов (Р. Л. Розенфельдт связывал само появление прямоугольных кирпичных горнов с распространением в Московии архитектурной керамики ( Розенфельдт, 1968. С. 13), что не исключает переноса такого типа из Западной Европы, где она известна по крайней мере с XII–XIII вв.
Материал, обнаруженный в самом горне и в гончарной мастерской, показывает, что здесь обжигали изразцы, преимущественно печные, и поливную посуду необычных форм. Большая часть находок – готовые печные изразцы первого (терракотового) обжига, еще без поливы. Среди них рельефные, из серии так называемых «эмблематов», датируемой 1710–1720-ми гг. ( Сергеенко , 1991. С. 52–70), и гладкие под роспись, чье появление также относят к началу XVIII в. Кроме заготовок, встречаются бракованные изделия с «поплывшей» поливой, искаженными пропорциями деталей и т. п.
Особый интерес вызывает целый (склеен из трех фрагментов) глиняный штамп-матрица. С его помощью на изразец наносили сложный элемент композиции – изображение (в овальном поле) простоволосого мужчины, со стрелой в одной руке и цветком в другой. Изразцы с таким рисунком обнаружены – это угловые элементы ренессансных печей, где искомое изображение, отпечатанное нашим штампом, расположено на срезе угла. Вырезать целиком угловую деталь с рельефом было сложнее, чем оттиснуть изображение на скосе добавочной матрицей (в средневековой Европе глиняные изразцовые штампы – совсем не редкость).
При обжиге изразцы разделялись в горне специальными мелкими приспособлениями («печной припас») различных форм, причем часть их изготовлена аккуратно и заранее обожжена, другая часть – небрежно вылеплена и просушена; известны и находки полосок сырой глины, которые превратились в керамику по ходу обжига.
60% собранных фрагментов керамики принадлежит к технической посуде, это обломки красноглиняных плошек для варки поливы. По форме они напоминают широкогорлые цветочные горшки среднего размера (диаметр венчиков 12–16 см, высота 9–10 см при широком основании 8–10 см). Плошки в основном использованные, обгоревшие до темно-коричневого цвета. Изнутри покрыты особым составом из белой глины со специальными добавками для того, чтобы полива не прилипала к стенкам. Сохранились и остатки самой поливы разных цветов. Несколько плошек еще не были в употреблении, причем на одной из них мастер оставил граффито по сырому (будет опубликовано отдельно).
Довольно много (11,9%) толстостенной, возможно, тоже технической посуды из красной глины. Незначительное количество (4,3%) составляют небольшие тонкостенные (толщина стенок 0,2–0,3 см) тигельки. Около 8% – обломки красноглиняных масляных светильников-плошек с особым соплом, вероятно, использовавшихся при производстве поливы. Остальное – обломки заготовок поливной посуды: тарелки с резным орнаментом, кувшины с налепными белоглиняными штамповаными розетками.
Ряд найденных «сосудов» трудно функционально определить, и даже описать сложно. Они изготовлены из толстых (1,5 см) пластов светлой огнеупорной глины. Форма близка параллелепипеду со скругленными ребрами, у которого только 3 длинных грани и 1 короткая торцовая, а четвертая длинная грань и второй торец срезаны по сырому; в длинных сторонах прорезаны прямоугольные отверстия-окна: по 3 в длинных сторонах и 1 в торце. Размеры предметов (15,0×9,5×9,0 см) хорошо соотносятся с размером продухов горна – возможно, их использовали для регулировки пламени.
В письменных источниках изученная гончарная мастерская упомянута не раз, с уточнением, что она внутри Солодовых палат: первый раз в описи 1727 г.; опись 1763 г. отмечает, что в Солодовых палатах «гончарная с гончарным горном одна, и при ней мастерская гончарная…» (РГАДА, ф.280, оп. 3, д. 81, л.7); опись 1784 г. лаконично отмечает «гончарные две» (РГАДА, ф.1625, оп. 1, д.71, л.18).
Возможно, с обнаруженными внутри монастыря горнами связана переписка 1709–1710 гг. о развитии здесь производства изразцов. В 1709 г., после Полтавской битвы, в монастырь прислали пленников-шведов для организации производства изразцов. Они затребовали все необходимое: «Декабря 8-го числа Воскресенский стряпчий Савва Кудрявцов подал в монастырской приказ письмо, в котором написано, «что по сказке тех иноземцев, надобно к гончарному мастерству: изготовить горн, свинцу 10 фунтов, олова 3 фунта, паташу фунт, краски лазори ½ фунта, соли 6 фунтов, белой глины два куска, два круга деревянных, на чем гончарная работа работать…». В ответе велено было это исполнить, а «горн до указу не ставить…». ( Леонид (Кавелин) , 1876. С. 85) . Однако Петр I (указ 05.08.1710) «горны велел починить или внове зделать» (цит. по: Леонид (Кавелин) , 1876, С. 86) . Видимо, «внове зделали» горн именно в помещении Солодовых палат.
Найденный в палатах производственный комплекс позволяет реконструировать изразцовое производство с такими техническими подробностями, каких археологи России до сих пор не наблюдали. Горн в ходе реконструкции палат сохранен на своем месте как элемент музейной экспозиции; конструкция предварительно укреплена.
Список литературы Горн и мастерская XVIII века для производства поливных изразцов в солодовых палатах Ново-Иерусалимского монастыря
- Беляев Л.А., 2012. Историческая археология России Нового и Новейшего времени: шаг к формированию//1150 лет Российской государственности и культуры: материалы к Общему собранию РАН, посвященному Году российской истории (Москва, 18 декабря 2012 г.)/Сост. В.Б. Перхавко. М.: Наука. С. 307-320.
- Беляев Л.А., 2013. Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь как памятник археологии начала Нового Времени//РА. № 1. С. 30-42.
- Глазов В.П., 1986. Отчет об археологических наблюдениях за земляными работами в Спасо-Евфимьевском монастыре осенью 1986 года. Владимир//Архив ИА РАН. Р-1. № 13068.
- Зеленская Г.М., 2012. Использование строительных материалов в Воскресенском монастыре Нового Иерусалима по письменным источникам XVII в.//Русский мир в мировом контексте. Рубцовск.
- Леонид (Кавелин), 1876. Ценинное дело в Воскресенском, Новый Иерусалим именуемом монастыре с 1656-1759//Вестник общества древнерусского искусства при московском публичном музее, издаваемый под редакцией Г. Филимонова. 11-12. М. С. 81-87.
- Розенфельдт Р.Л., 1968. Московское керамическое производство XII-XVIII вв. М.: Наука. 123 с. (Свод археологических источников; вып. Е1-39.)
- Сергеенко И.И., 1993. Об изразцах с «иероглифическими фигурами» и о московском мастере Яне Флегнере//Коломенское: Материалы и исследования. Вып. 5. Ч. 1/Ред. Л.А. Беляев, В.Е. Суздалев. М.: Музей-заповедник «Коломенское». С. 52-70.