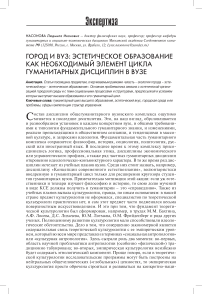Город и вуз: эстетическое образование как необходимый элемент цикла гуманитарных дисциплин в вузе
Автор: Насонова Людмила Ивановна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Экспертиза
Статья в выпуске: 5, 2022 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена предметам, очерчиваемым рамками «власть - экология города - эстетический вкус - эстетическое образование». Основная проблематика связана с эстетической организацией городской среды и с теми социальными процессами и структурами, предпосылкой и условием которых выступает высшее образование и его гуманитарный цикл.
Гуманитарный цикл высшего образования, эстетический вкус, городская среда и ее проблемы, сферы компетенции структур управления
Короткий адрес: https://sciup.org/170195870
IDR: 170195870 | DOI: 10.31171/vlast.v30i5.9258
Текст научной статьи Город и вуз: эстетическое образование как необходимый элемент цикла гуманитарных дисциплин в вузе
Состав дисциплин общегуманитарного вузовского комплекса ощутимо меняется в последние десятилетия. Это, на наш взгляд, обусловливается и разнообразием установок в каждом конкретном вузе, и общими требованиями к типологии фундаментального гуманитарного знания, и изменениями, реально происходящими в общественном сознании, и тенденциями в массовой культуре, и запросами идеологии. Фундаментальная часть гуманитарного комплекса сохраняется: философия, история, социология, политология, русский или иностранный язык. В последнее время к этому комплексу присоединились логика, профессиональная этика, дисциплины экономического или управленческого профиля, а также ряд частных гуманитарных дисциплин откровенно идеологически-конъюнктурного характера. В то же время ряд дисциплин исчезает из учебных планов вузов. Среди них стоит назвать, например, дисциплину «Концепции современного естествознания», волюнтаристски внедренную в гуманитарный цикл только для расширения кругозора студентов гуманитарных вузов. Примечательна мотивация этой акции: если уж естественники и технари изучают философию и историю, то свою долю мучений в виде КСЕ должны получить и гуманитарии – это «справедливо». Также из учебных планов выпала культурология, правда, по иным основаниям: в нашей стране предмет культурологии не оформился, специалистов по теоретической культурологи практически нет, и сам этот предмет часто подменялся весьма поверхностным искусствоведением. И это при том, что фундамент теоретической культурологии был сформирован, например, в трудах М.М. Бахтина, А.Ф. Лосева, Д.С. Лихачева, Ю.М. Лотмана, О.М. Фрейденберг и ряда других ученых. Полноценному развитию культурологии мало способствовали идеологические обстоятельства. Дело в том, что совершенно закономерной является содержательная связь теоретической культурологии с ее эмпирическим уровнем, который во всем мире представлен в терминах «социальная антропология» или «культурная антропология». Здесь сыграли роль два момента: во-первых, область научной проблематики антропологии (особенно «физической») традиционно табуирована; во-вторых, эмпирическая культурология неизбежно будет содержать этнологический компонент. Проще говоря, если в теоретической культурологии исследовательские программы могут быть построены на нейтральных общечеловеческих («глобальных») ценностях, то эмпирическая культурология просто обречена строиться и развиваться на конкретно-наци- ональном культурном материале. Полученная в результате таких исследований научная продукция, особенно популяризированная, совершенно логично вызывает экспликацию и позиционирование национальных ценностей, что в конкретике российского менталитета может создать ряд специфических проблемных областей.
Обрисованные выше процессы закономерны для живой жизни духа, они демонстрируют необходимость генерации новых направлений в системе гуманитарного образования и воспитания. Тому имеется ряд причин, таких хотя бы как вторжение в материальную и духовную культуру информационных технологий, или проблематика «открытого общества» с его гонкой потребления, вызывающая очевидные смещения в системе российских ценностей (на наш взгляд, слишком законсервированных), которые к тому же в силу действия российских «советских» традиций немедленно приобретают политико-идеологический статус.
Однако мы ставим перед собой значительно более скромную цель, нежели анализ российских общекультурных процессов. Ведь по-прежнему актуальными остаются вопросы совершенствования гуманитарного образования в вузе. В принципе сложившаяся система вполне приемлема, и подвижки в ней свидетельствуют о ее жизнеспособности и соответствии актуальным вызовам дня. В то же время хотелось бы уделить внимание проблеме, которая находится на периферии системы гуманитарных ценностей. Это проблема воспитания эстетического вкуса. Казалось бы, частная, даже личная сфера. Однако это не так: эстетическое воспитание играет важнейшую роль в становлении личности, в стиле деятельности личности вне зависимости от ее конкретной сферы. Выработка эстетического вкуса осуществляется через усвоение, хотя бы поверхностное, идей, выраженных в художественных произведениях, идей, аккумулирующих оптимальные нормы мотивации и организации человеческой деятельности. В каждом виде искусства складываются субординированные системы норм действия, проявляющиеся на разных уровнях: от идеи – к ее конкретному выражению и затем – к системе технических средств этого выражения. На каждом уровне существует своеобразный «космос», задающий меру в любом отношении, особенно важном в том, что касается меры свободы. Но это в самом общем плане. Требование меры присутствует на всех уровнях художественного материала и вызывает в качестве ответа эстетическое восприятие, которое продуцирует, конституирует и транслирует это чувство меры, которое мы и называем эстетическим вкусом и которое, в сущности, представляет собой хороший вкус вообще.
Заметим, что в пространстве современной российской культуры с этим просто беда. Высокий эстетический вкус в какой-то мере присутствует в обществе лишь благодаря отчаянным, почти ритуальным мерам консервирования классической литературы и искусства в противовес реальным центробежным тенденциям. Практически все проявляющие себя стили и направления эстетической профессиональной и непрофессиональной деятельности представляют собой даже не «разбегающиеся галактики», а лишь более или мене собранные в кучу обломки «космических» объектов с неустоявшимся или вообще отсутствующим циклом существования и развития. И здесь речь идет не об однодневках массовой культуры, а о всей плоти современной культуры, которая представляет собой слепленный из обломков и заряженный идеологически выверенной семантикой симулякр.
При этом обращает на себя внимание тот аспект безрадостной картины, который связан с человеческой повседневностью, причем последняя в большом обществе всегда организована и снабжена системами социального управления. Активными элементами таких систем являются еще не роботы, а живые люди, встроившиеся в систему управления в силу действия различных объективных и субъективных факторов, в т.ч. влияния реальных демократических процессов. Проще говоря, на низших уровнях формирования подобной системы управления рекрутирование руководящих кадров идет более или менее стихийно, жесткая регламентация отсутствует, реальные факторы процесса носят неформальный и весьма разнообразный характер. На более высоких уровнях система руководства приобретает более строгий, нормативный характер, который совершенствуется по мере повышения уровня социальной значимости задач управления. Однако в любом случае исходный человеческий материал обладает однотипными социально-личностными характеристиками: «политически грамотен, идейно выдержан, морально устойчив» (возможно, не самый корректный hommage). Главным и необходимым формальным требованием к лицу, в котором усматривается властный потенциал, является наличие высшего образования. Но данное лицо, начиная управленческую карьеру, неизбежно выпадает из первичной профессиональной сферы, в памяти сохраняются лишь отдельные, часто случайные содержательные установки, сформировавшиеся как во время обучения в вузе, так и в процессе накопления разнообразного личного опыта. В дальнейшем взращиваются лишь управленческие навыки, реализующиеся в меру личных способностей.
Самое примечательное то, что наши демократические механизмы не детерминируют жестко ту сферу социальной жизни, где данное лицо будет применять свои знания, умения, творческие способности и т.п. Поэтому могут возникнуть ситуации, когда управленец не может опираться только на личный потенциал и вынужден привлекать дополнительные консультативно-коррек-тирующие структуры. Существуют области управления, где нет жесткой специальной направленности, где личный менталитет руководителя постоянно сталкивается с человеческой повседневностью. Имеется в виду практика руководства комплексными социальными образованиями: округами, областями, районами, городами и селами, где главной задачей руководства выступает организация сферы непосредственной жизнедеятельности масс людей во всем ее разнообразии, т.е. то, что можно было бы назвать социальной экосистемой человека. Соответственно, и задачи такой организации чрезвычайно многообразны в социальном, экологическом, техническом и других аспектах. И если в ряде аспектов наличествуют системы государственных нормативов и стандартов, то есть также аспекты, относительно свободные от них, а именно аспекты социальной экологии, которые предусматривают организацию всевозможных материальных и ментальных процессов, обеспечивающих нормальную окружающую среду для человеческих действий, комфортную в отношении как объективных (природных или искусственных), так и субъективных социальнопсихологических факторов.
В эпоху индустриального общества этому обстоятельству уделялось мало внимания. Основную роль играли факторы, обеспечивающие эффективность и безопасность материального производства (в т.ч. и человеческого материала). В информационном обществе происходит изменение привычных сред обитания людей, что и порождает новые проблемные ситуации. Выясняется, что линейно-кумулятивная модель производства имеет малоприятные, даже антигуманные стороны, которые (не останавливать же производство) нужно каким-то образом компенсировать. Речь идет именно об экологии города; экология деревни автоматически определяется либо природными усло- виями, либо традициями, и все негативные факторы нивелируются совершенно автоматически (хотя, разумеется, не бесконтрольно). Город больше и сложнее. В некомфортных ситуациях он призывает на помощь те сущности, которые ранее рассматривались лишь как статусные безделушки: имеются в виду эстетические объекты, организующие, украшающие и гуманизирующие городскую среду.
Здесь мы вторгаемся в область эстетической градостроительной деятельности, весьма древнюю и имеющую длительную историю достижений. Градостроительная деятельность в статусном и гуманистическом аспектах в прошлом осуществлялась на основе определенных исторически складывающихся норм, притом в целом достаточно спокойно и без эксцессов. Так было до XIX столетия. Первый удар был нанесен строительством Эйфелевой башни. (Может быть, первенство принадлежит Вавилонской башне, но в ее судьбу вмешались высшие силы.) Кстати, в качестве одного из проектируемых мест установки Шуховской радиобашни планировался Кремль. Конечно, Эйфелева башня знаменовала победу современной индустрии над патриархальностью, прогресса – над архаикой. Париж это переварил, остальные страны тоже, но рождение проблемы ощутили многие: ведь архитектурные новации допустимы, только если они имеют в своей основе очень тонко прочувствованные и до конца не осознанные изменения очертаний бытия человека – как социума, как рода и как личности (современные стремления к измененным состояниям сознания и к изменению пола – из той же оперы).
В далеком прошлом строительство городской среды шло медленно и «на миру», оно контролировалось всеми официальными и неофициальными инстанциями, т.к. город был мал и обозрим. Все ошибки замечались немедленно и в большинстве случаев быстро устранялись. Вспомним, что красота содержит в себе элемент функциональности, уродливое сооружение имманентно содержит момент опасности. (В социальном плане тот же мотив удачно выражен в афоризме: «дурной тон ведет к преступлению».) В современных городских агломерациях все значительно сложнее. Решение об украшении городской среды должно приниматься осторожно, со знанием дела и при широком общественном обсуждении. Не буду приводить примеры из зарубежного опыта, который был богат и достижениями, и неудачами, однако укоренившиеся демократические механизмы принятия решений, хотя бы на уровне коммун, не допускали откровенного непрофессионализма и дурного вкуса.
Если мы обратимся к отечественному опыту, то обнаружим весьма молодую демократию (в несколько условном смысле) в сосуществовании с обширным историческим пластом автократического волюнтаризма. Ранее в целом волюнтаризм умерялся существованием неформальных экспертных групп (аристократия, церковь), хотя и неудач тоже хватало, о чем ниже. Современный «разгул демократии» дал о себе знать очень быстро. При этом обнаружилось, что стилевая архаика и эклектика прошлых эпох, в т.ч. стиль «вампир» (укоренившийся в публицистике термин для обозначения советской эклектики периода сталинизма), все-таки сообщал городам России атмосферу спокойствия и уверенности в настоящем (выстояли и победили), которая проецировалась и в будущее. В городской социальной экологии новые процессы оформились очень быстро. Некомпетентность, волюнтаризм и коррупция проявили себя в крайне дурном вкусе в области архитектуры, в неконтролируемой застройке и в «новорусской» претензии одновременно на модернизм и «классические традиции». Формирование такого вкуса обусловлено глубинными социальными процессами. Как отмечал в свое время Т. Адорно, «в условиях мира без образов растет потребность в искусстве, в том числе и потребность масс, познакомившихся с искусством впервые благодаря механическим средствам воспроизведения» [Адорно 2001: 30]. Последнее обстоятельство сообщает восприятию произведений искусства неаутентичный и, следовательно, деформированный характер. Примеров множество: достаточно пересчитать уродов и уродцев З. Церетели, полюбоваться на 70-этажные панельные бараки вокруг Серебряного бора или сравнить кривые гнилые зубы Москва-сити, изуродовавшие московскую панораму, с лондонским «огурцом». Единственный луч света – восстановление архитектурно-скульптурного ансамбля ВДНХ (кстати, в стиле «вампир», являющемся ценным памятником эпохи, и, кстати, почему ВДНХ? Ведь исторически первое название выставки ВСХВ – Всесоюзная сельскохозяйственная выставка). Еще одна иллюстрация мысли: памятник Ф.М. Достоевскому у Российской государственной библиотеки. Писатель-философ изображен в геморроидальной позе, видимо, символизирующей нравственные терзания мыслителя. При этом, во-первых, урезав свободное пространство площадки у входа в РГБ, архитектурно организованное с использованием крытых галерей с колоннами, памятник «вытеснил» и физически, и ментально несомненно присутствовавшую в замысле идею, афинской стои. Во-вторых, мотив установки памятника, буквально «въехавшего» на середину перекрестка Воздвиженки и Моховой, очевиден: поток туристов, проходящих от Красной площади через Александровский сад на Арбат за сувенирами, неизбежно наталкивается на подсовываемую им фигуру (Достоевский!!!). В итоге благих намерений – искажение первоначального архитектурного замысла, деформация участка городского пространства в угоду конъюнктурным соображениям. Кстати, «реконструкция» площадки продолжается: позади памятника расположили черные гранитные кубы, в которых высажены деревья, критерии подбора которых неясны. Это окончательно перечеркнуло первоначальный образ агоры, ступенчато приподнятой над повседневностью улиц и выражающей идею свободной мысли.
Данный пример хорошо иллюстрирует эстетический принцип, которому должны следовать создатели монументальных произведений. Дело в том, что монументальное скульптурное произведение, существующее, «живущее» в достаточно обширных пространствах, представляет собой воплощение синтеза скульптуры и архитектуры, гармоничное сочетание художественных приемов разных видов изобразительного искусства (если вообще архитектуру считать изобразительным искусством). Связь памятника «с организующей пространство архитектурой придает планировке тектоническое единство» [Бринкман 2010: 199]. Это теоретическое положение. По выражению одного из теоретиков архитектуры, «люди создают рамки для своей жизни, архитектурно организуя пространство» [Анвин 2012: 109]. Можно сказать, что архитектура преобразует физическое пространство в жилище человека, которое может быть комфортным и дискомфортным; поэтому деформация окружающего пространства может позитивно или негативно действовать на человека (вспомним выражение «депрессивная экология»). Проще говоря, скульптура существует в организованном пространстве, даже если оно природного качества: принцип синтеза универсален. Практика принятия градоустроительных решений в идеале должна опираться на чувство этого синтеза, которое формируется в рамках развитого эстетического вкуса, базирующегося на фундаменте общей культуры.
В других городах не лучше. Яркий пример – пресловутая нововоронежская Аленка или расплодившиеся во многих городах России «памятники» в нату- ральную величину человека, якобы органично вплетенные в городскую среду. Смею заметить, что это принципиально порочная установка; памятник (нечто неживое, остановившееся) должен быть пространственно отделен от живой «социальной ткани». Кто ваяет эти произведения «искусства»? Кто подписывает документы на их установку? Люди, у которых есть власть, есть высшее образование, даже не одно, но нет хорошего эстетического вкуса. Думаю, что особого обсуждения достоин новый памятник бойцам Красной армии во Ржеве. Не говоря уже о потрясающей эклектике, и изобразительной, и идейной, не говоря уже о дальневосточных аллюзиях, можно сказать только, что редко когда высокая патриотическая идея была столь неуклюже выражена. Видимо, новизна этого памятника и его патриотическая идея вызвали к жизни желание запечатлеть его на будущей сторублевой купюре; правда, на ее проекте памятник представлен без нижней части, он ограничен только торсом бойца, «постамент», видимо, изобразить постеснялись. Отметим, что на существующих российских купюрах памятники Ярославу Мудрому, Петру I, Муравьеву представлены в рост и вкупе с пьедесталами (а «сторублевый» Аполлон – заодно и со всей квадригой). При анализе указанного явления можно обнаружить выход на ряд проблемных областей, таких как, например, соотношение этического и эстетического. М.М. Бахтин считал необходимым различение этих сфер духа [Бахтин 1979: 22-23]. Другая область: соотношение эстетического и идеологии. А.Ф.Лосев считал, что художественный стиль всегда идеологичен. Однако идеологию эстетического мы познаем не чисто абстрактно, а «неотличимо от самого произведения искусства, как растворенную в самом стиле и уже неотделимую от него специфическую тенденцию» [Лосев 2019: 207].
Впрочем, если оглянуться на наше прошлое, то примерно такой же дурной вкус мы увидим в центре Псковского кремля. Это типовой Троицкий собор конца XVII столетия, который и эстетически, и технически (неоднократно заваливался на бок и подпирался контрфорсами, да и на треть в яму ушел) портит чудом сохранившийся древний и прекрасный ансамбль Псковского кремля. В Москве на улице Большие Каменщики каждый может полюбоваться «ансамблем» Новоспасского монастыря с его многочисленными эклектическими наслоениями, венцом которых стала типовая колокольня в стиле русского барокко, которая своей высотой, обилием декора и массивностью буквально раздавила весь монастырь, превратив его прочие постройки в бесформенную груду. При желании список подобных примеров можно продолжить. Все эти иллюстрации безобразий городской экологии приведены с ясной и точной целью. Дело в том, что «город, как и общество в целом, не должен быть объектом конъюнктурного манипулирования, он должен быть понят как сложная система, без знания закономерностей саморазвития которой никакие усилия не принесут желаемого результата» [Косенкова 2011: 104]. Программа патриотического воспитания и образования в вузовском гуманитарном цикле должна обязательно включать хотя бы краткий курс истории российского изобразительного искусства и архитектуры, тем более, в наши дни существует мощная техническая база в виде информационных технологических устройств, позволяющая изучать этот курс как аудиторно, так и в домашних условиях. Разумеется, мы не призываем к восстановлению так называемой культурологии; напротив, предлагаемый курс должен быть спланирован и содержательно организован на самом высоком профессиональном искусствоведческом уровне, исключающем случайных авторов и преподавателей и случайный подбор материала. Знакомясь с содержанием предлагаемого курса, обучающиеся не только приобщаются к великому культурному наследию России, не только глубже усваивают исторический и социально-философский материал, но и при удачно сложившейся административной карьере, решая вопросы городской экологии, помогут сохранить и украсить светлый лик нашей Родины.
Список литературы Город и вуз: эстетическое образование как необходимый элемент цикла гуманитарных дисциплин в вузе
- Адорно Т. 2001. Эстетическая теория. М.: Республика. 527 с.
- Анвин С. 2012. Основы архитектуры. СПб: Питер. 272 с.
- Бахтин М.М. 1979. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство. 424 с.
- Бринкман А.Э. 2010. Площадь и монумент как проблема художественной формы. М.: Изд-во ЛКИ. 296 с.
- Косенкова Ю.Л. 2011. Градостроительство советской эпохи. Опыт прошлого и уроки на будущее. - Архитектура изменяющейся России: состояние и перспективы. М.: КомКнига. С. 93-104.
- Лосев А.Ф. 2019. Учение о стиле. М., СПб: Нестор-История. 456 с.