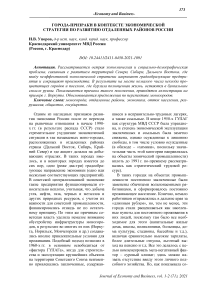Города-призраки в контексте экономической стратегии по развитию отдаленных районов России
Автор: Упоров И.В.
Журнал: Экономика и бизнес: теория и практика @economyandbusiness
Статья в выпуске: 1-2 (71), 2021 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается острая экономическая и социально-демографическая проблема, связанная с развитием территорий Севера, Сибири, Дальнего Востока, где ввиду неэффективной экономической стратегии закрывают градообразующие предприятия и сокращают производства. В результате на месте немалого числа некогда процветающих городов и поселков, где бурлила полноценная жизнь, остаются в буквальном смысле руины. Показываются причины такого положения, приводятся иллюстрации на примере г. Воркуты. Обосновываются предложения по перспективе моногородов.
Моногорода, отдаленные районы, экономика, отток населения, разрушения, общество, государство
Короткий адрес: https://sciup.org/170183071
IDR: 170183071 | DOI: 10.24411/2411-0450-2021-1091
Текст научной статьи Города-призраки в контексте экономической стратегии по развитию отдаленных районов России
Одним из наглядных признаков развития экономики России после ее перехода на рыночные отношения в начале 1990х гг. (в результате распада СССР) стало стремительное ухудшение экономической ситуации в так называемых моно-городах, расположенных в отдаленных районах страны (Дальний Восток, Сибирь, Крайний Север) и где акцент делался на добывающих отраслях. В таких городах имелось, и в некоторых городах имеется до сих пор, одно (реже два-три) градообразующее направление экономики (одно иди несколько соответствующих предприятий). В советской централизованной экономике такие предприятия функционировали относительно неплохо, учитывая, что добыча угля, нефти, газа, черных и металлов и других природных ресурсов, с учетом их важности для советской промышленности, финансировались отнюдь не по остаточному принципу. По этим же причинам советская власть уделяла немалое внимание обустройству инфраструктуры моногородов, в результате во многих из них (Воркута, Норильск, Мончегорски и др.) создавались вполне привлекательные условия для проживания. Подобный подход позволил в 1960-х гг. в основном освободиться от «фактора ГУЛАГа», когда для строительства и эксплуатации крупнейших объектов на территории Советского Союза неизменно привлекались заключенные, содержав- шиеся в исправительно-трудовых лагерях, а также ссыльные. В конце 1950-х ГУЛАГ как структура МВД СССР была упразднена, и степень экономической эксплуатации заключенных и ссыльных была заметно снижена, однако осужденные к лишению свободы, в том числе условно осужденные (в обиходе – «химики», поскольку значительная часть этой категории направлялась на объекты химической промышленности) вплоть до 1991 г. по-прежнему рассматривались как стратегический трудовой ресурс).
В таких городах на объектах промышленности постепенно заключенные были заменены обычными вольнонаемными работниками, и сформировалось постоянно проживающее население. Конечно, немало работников отправлялись в дальние края за «длинным рублем», но, тем не менее, эти города стали расцениваться как населенные пункты для постоянного проживания в них людей, поскольку там было все необходимое для этого (капитальные жилые дома, школы, поликлиники, больницы, дома культуры, стадионы, бассейны и т.д.), включая сравнительно высокие зарплаты, более длительные отпуска, льготный выход на пенсию и т.д. Все это делалось с целью компенсировать мега-негативный фактор – суровый климат; здесь можно назвать отсутствие ввиду этого личного подсобного хозяйства. Но, как показывала со- ветская история, определенный баланс в этом контексте был найден.
Ситуация стала стремительно ухудшаться после разрушения формировавшихся десятилетиями экономических связей, приватизации градообразующих предприятий в начале 1990-х гг. Так, в 19921999 г. объем ВВП (в физических показателях) снизился на 36%, объем инвестиций сократился почти в 4,8 раза, удельный вес экономики России в общемировом экономическом пространстве был снижен с 3,2% до 1,9% [1, с. 48]. Дальнейшее развитие экономических отношений уже не имело сколько-нибудь определенное регулируемое направление, правящая российская элита отдала экономику на откуп рынку, который должен был должен был, по ее ожиданиям, сбалансировать экономику и сделать ее эффективной наподобие европейских стран. И уже тогда была обозначена тенденция ускоренного оттока населения из отдаленных районов (прежде всего из Сибири и Дальнего Востока) в европейскую часть страны ввиду закрытия градообразующих предприятий и кардинального сокращения еще функционирующего производства. И этот отток, как констатирует государство в лице премьер-министра Д.А. Медведева, пока не остановим, не помогает и широко разрекламированный «дальневосточный гектар» [2] (и эта проблема настолько остра, что ставится вопрос о том, «сможет ли Россия сохранить за собой суверенитет над Сибирью и Дальним Востоком, остаться в числе самостоятельных в цивилизационном и правовом отношении государств» [3, с. 265], но данный аспект мы не рассматриваем)
Соответственно проблемы моногородов еще больше обострились, в том числе в период очередного финансового кризиса 2008-2009 гг. Как отмечает В.В. Гусев, «выяснилось, что в огромной стране достаточно много таких городов (поселений), и ситуация в них не поддается регулированию силами самих муниципальных властей, требует вмешательства и поддержки, прежде всего финансовой, со стороны высших уровней государственного управления, федерального центра» [4, с. 30]. А в одном из экспертных докладов указывает- ся, что «отставание России от развитых и ряда развивающихся стран в области организации среды и систем, поддерживающих человеческий капитал (урбанистика, экология, транспорт, информационное пространство, медицина, социальная помощь, ЖКХ), значительно превышает отставание в сфере материального производства и промышленных технологий. Урбанистическое планирование в России застряло в середине ХХ века, тогда как необходимо быстрое изменение подходов к организации, планированию и изменению городской среды (“города, удобные для жизни”)» [5, с. 263].
В апреле 2014 г. было проведено очередное совещание по вопросам стабильного развития моногородов на самом высоком уровне. Было отмечено, что в России таких городов 342, в них проживает почти 16 млн человек. Опять было много констатаций, самоотчетов, предложений. Однако действенных результатов так и нет. Странным выглядело очередное заклинание, высказанное на этот раз тогдашним министром экономического развития А.А. Улюкаевым: «Хочу напомнить работодателям об их социальной ответственности. Проводя реструктуризацию производства в моногородах нужно всегда думать о людях, учитывать, есть ли в городе, районе альтернативные рабочие места» [6]. Однако бизнес не обязан решать социальные проблемы моногородов, а государство оказалось неспособным изменить положение к лучшему путем соответствующих нормативно-правовых и управленческих решений, в том числе по стимулированию бизнеса в социальной сфере.
Как следствие моногорода приходят в запустение. Вслед за уезжающими навсегда людьми наблюдается стихийное разрушение всей инфраструктуры, что во многих случаях создает апокалипсическую картину. Это хорошо видно, например, в поселке Воргашор, который входит в состав заполярной угледобывающей Воркуты. В свое время он активно расширялся, и прежде всего благодаря строительству и эксплуатации сначала шахт №19 и №20 («Октябрьской»), а затем крупнейшей и по-прежнему пока еще действующей шах- ты «Воргашорской». На пике своего развития в поселке насчитывалось более 25 тысяч человек (1989 г.), в нем функционировали три школы, современный больничный комплекс, крытый каток и другие объекты соцкульбыта. В настоящее время непрерывно уменьшающаяся численность жителей поселка составляет около 10 тысяч человек – столько же, сколько было в 1970 г.
Символом процветания поселка, едва не получившего статус города, стало строительство вот этого здания великолепной архитектуры (рис. 1).

Рис. 1. Недостроенное и брошенное здание детского сада
Это должен был быть детский сад со своим бассейном. Оставалось совсем немного для того, чтобы объект был закончен и чтобы строители могли перейти к возведению расположенного недалеко другого объекта – спортивного комплекса, где к тому времени уже были готовы фундамент и каркас. Но вдруг на рубеже 1990 г. чья-то невидимая рука смахнула всех строителей, остановила движение вперед. И с того момента началась деградация поселка, сползание вниз с достигнутых высот. Жители бросали свои некогда добротные жилые дома, где кипела своя дворовая жизнь, и теперь эти дома, как, например, этот (рис. 2), еще не сравнялись с землей только потому, что некогда были возведен крепкий кирпичный остов.

Рис. 2. Типовой жилой дом рубежа 1960 г. в поселках Воркуты
Большинство угольных шахт закрыты и разрушены. Вот что осталось, например, от шахты №17 (рис. 3).

Рис. 3. Руины на месте бывшей шахты №17.
Школа №24 – ныне бывшая, брошена (рис. 4). Перед фасадом в праздничные дни устанавливали трибуну и мимо по улице Шахтостроительной, которая была воргашорским бродвеем (сегодня – тихая кладбищенская дорога между мертвыми домами), проходили первомайские и ноябрьские демонстрации под бодрые мелодии духового оркестра.

Рис. 4. Бывшая восьмилетняя школа № 24
А это бывшая небольшая железнодорожная станция (постройки 1954 г.) на другом воркутинском поселке Хальмер-Ю (рис. 5), через которую проходили тысячи эшелонов с углем.

Рис. 5. Бывший вокзальчик пос. Хальмер-Ю.
Подобные картины можно встретить в других местах, где преобладали моноэко-номические города – с прекращением деятельности профильных предприятий и организаций, часто сопряженной с их физическим разрушением, тысячи работников остались без работы и средств к достойной жизни, в числе таких городов (поселков): Краснокаменск (Иркутская область), Жи-рекен (Забайкальский край), Абаз (Республика Хакасия), Юрга, Анжеро-Судженск, Прокопьевск (Кемеровская область), Старая Губаха, Юбилейный, Березники (Пермский край), Колендо, Нефтегорск,
(Сахалинская область), Иультин (Чукотский автономный округ), Нижнеянск, Ынычкан (Республика Якутия-Саха), Финвал (Камчатская область), Алыкель (Таймырский автономный округ), Андерма (ненецкий автономный округ), Кадыкчан, Алыкель (Магаданская область) и др. Многие бывшие жители таких городов недоумевают: ведь не было же военных действий, не было бомбежки – что такое могло случиться – и почему?! – чтобы оставались вот такие руины и появлялись города-призраки (и это еще щадящие фотографии)? Ответа по существу пока нет. Равно как неизвестны имена тех, кто должен от- торий , а именно нужны новые подходы, ветить за это.
Мы полагаем, что такого рода моногорода, оказавшиеся невостребованными в отдаленных районах, не должны иметь судьбу брошенных и подлежащих забвению. Не забудем, что в них в течение нескольких десятилетий жили наши соотечественники, осваивали эти места, и во многом благодаря им Россия получает так необходимые природные ресурсы. Поэтому важно как минимум сохранить память об этих городах, для чего целесообразно в соответствующих субъектах Федерации наладить сбор экспонатов для музеев. Далее, поскольку, в моногородах, даже с учетом уменьшения численности, продолжают жить люди, то нужно обеспечить им достойные условия. И действующие проекты и программы по обустройству отдаленных территорий, как мы показали, недостаточно эффективны в силу как мало-масштабности, так и отсутствия координации, то требуется смена экономической связанные с прорывными проектами, позволяющими обогатить северные, сибирские и дальневосточные просторы нашей страны добротным человеческим капиталом. А те города, которым по объективным причинам суждено «умереть», должны закрываться на хаотично, а в плановом порядке. Разумеется, потребуется огромное финансирование, миллиардные вложения, целесообразно также, чтобы один из заместителей премьер-министра занимался только проблемой развития отдаленных территорий России. Общий вектор должен усилий государственных управленцев быть направлен на расширение стимулов для жителей России постоянно жить и трудиться в отдаленных районах, в том числе использовать опыт советского времени. И это должен быть не кампанейский, а долговременный тренд (на несколько десятилетий). Но для этого нужна в первую очередь политическая воля, причем как федерального центра, так и субъектов Фе- стратегии по развитию отдаленных терри- дерации.
Список литературы Города-призраки в контексте экономической стратегии по развитию отдаленных районов России
- Рывкина Р.В. Драма реформ. - М.: Дело, 2001. - 416 с.
- Фаляхов Р. Дальневосточный гектар: почему он не нужен и даром // Газета.ру. 07.05.2019. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.gazeta.ru/business/2019/05/06/12341119.shtml (дата обращения: 18.01.2021 г.).
- Якутович Е.В. Демографический кризис как угроза национальной безопасности Российской Федерации на Дальнем Востоке // Вестник МГИМО Университета. - 2012. - Вып. 5. - С. 260-265.
- Гусев В.В. Российские моногорода: проекты будущего или архаичное наследие прошлого? // Власть. - 2012. - №10. - С. 23-31.
- Итоговый доклад о результатах экспертной работы по актуальным проблемам социально-экономической стратегии России на период до 2020 года "Стратегия-2020: новая модель роста - новая социальная политика". - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://2020strategy.ru/ data/2012/03/13/1214585985/itog.pdf
- Совещание по вопросам стабильного развития моногородов. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.kremlin.ru/events/president/news/20873 (дата обращения: 14.01.2021 г.).