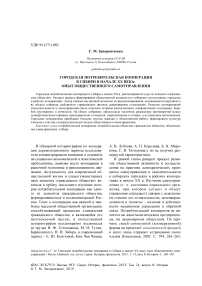Городская потребительская кооперация в Сибири в начале XX века: опыт общественного самоуправления
Автор: Запорожченко Галина Михайловна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Российская история
Статья в выпуске: 8 т.14, 2015 года.
Бесплатный доступ
Городская потребительская кооперация в Сибири в начале XX в. рассматривается в русле концепта «гражданское общество». Раскрыт процесс формирования общественной активности в сибирских всесословных городских и рабочих кооперативах. Автор показал внутренний механизм их функционирования, основанный на верховенстве общего собрания, выборности управляющих органов, равноправном голосовании. Развитие кооперативной самодеятельности и самоуправления было отмечено острыми разногласиями, конфликтными ситуациями, борьбой группировок и личностей. На общих собраниях происходило частичное разрешение противоречий между демократическими нормами самоуправления и контроля, закрепленными в уставах, и их реальным воплощением. Городские кооперативы приобщали большие группы граждан к общественной работе, формировали культуру членского участия, создавали реальную модель общественного самоуправления.
Потребительская кооперация, потребительское общество, гражданское общество, общественное самоуправление, сибирь
Короткий адрес: https://sciup.org/147219417
IDR: 147219417 | УДК: 94
Текст научной статьи Городская потребительская кооперация в Сибири в начале XX века: опыт общественного самоуправления
В обширной историографии по кооперации дореволюционного периода исследователи концентрировали внимание в основном на социально-экономической и политической проблематике, выявляя место кооперации в рыночной экономике и революционном движении. Актуальность для современной общественной жизни и социогуманитарных наук концепта «гражданское общество» вовлекла в орбиту последнего изучение истории потребительской кооперации как одного из элементов гражданского общества, формировавшегося в позднеимперской России. Тезис о кооперации как важной и наиболее массовой общественной организации, способствовавшей процессам становления гражданского общества и являющейся его неотъемлемой частью, в отечественной историографии неоднократно выдвигался (в трудах В. Ф. Тотомианца, М. И. Туган-Барановского, Н. И. Зибера, в современный период – Е. Ю. Болотовой, Ким Чан Чжина,
А. В. Лубкова, А. П. Корелина, Б. Н. Миронова, С. В. Тютюкина.), но не получил развернутой характеристики.
В данной статье раскрыт процесс развития общественной активности и осуществления на практике демократических принципов самоуправления и самодеятельности в сибирских городских и рабочих кооперативах в начале XX в. Изучение самоуправления (т. е. состояния социального организма, при котором субъект и объект управления совпадают) связано с выяснением степени его сознательности, целенаправленности и полноты – наличия и действенности механизмов управления и обратной связи. Потребительский кооператив не является ни капиталистическим предприятием, ни акционерным обществом. По причине своей совокупной (кооперативной) формы он предстает экономической фикцией и всего лишь отражает устремления своих членов [Емельянов, 2005. С. 194, 263–265;
Запорожченко Г. М. Городская потребительская кооперация в Сибири в начале XX века: опыт общественного самоуправления // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2015. Т. 14, вып. 8: История. С. 100–107.
ISSN 1818-7919. Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2015. Том 14, выпуск 8: История
Соболев, 2012. С. 15–16]. Это объясняет возможность проявления кооперацией своей общественной (неторговой) стороны, которая в России получила особенно большое развитие. Российское кооперативное движение характеризовалось не только весомым вкладом в систему розничной торговли и кооперативного производства, но и глубокой верой в социореформистскую миссию кооперации, культурной деятельностью, создававшей многочисленные пространства для общения, образования и досуга. В начале XX в. российская потребительская кооперация воспринималась, прежде всего, как «школа общественной жизни» [Значение…, 1998. С. 336].
Устойчивый рост городской потребительской кооперации в Сибири начался в 1912–1913 гг. В Томске, Новониколаевске, Мариинске, Нарыме, Красноярске, Чите, Верхнеудинске, а в остальных городах Сибири – в годы войны – возникли и функционировали вплоть до преобразований советской власти 1919–1920-х гг. всесословные (общегражданские) и рабочие потребительные общества. Дореволюционная потребительская кооперация возникала на волне общественного спроса, а не из головы чиновников и являлась естественной общественной активностью. Она имела широкий социальный состав с преобладанием малоимущих слоев населения, живших собственным трудом.
Формирование общественной активности в сибирских городских и рабочих потребительских кооперативах прослеживается по протоколам и отчетам об общих собраниях, выступлениям кооперативных работников в прессе, наблюдениям полицейских органов. Внутренний механизм функционирования кооперации, обеспечивающий способность к самоорганизации, самодеятельности и саморегулированию, нашел выражение в принципах верховенства общего собрания, коллегиальности управления выборными органами, равноправного голосования пайщиков, что законодательно закреплялось в статьях Нормального устава потребительных обществ, утвержденного Министерством внутренних дел в 1897 г. Коллективное руководство деятельностью кооператива осуществлялось действительными членами на общих собраниях, которые подразделялись на учредительные, текущие, отчетные и чрезвычайные. На обычных собраниях разрешались вопросы, связанные с финансовыми, торгово-закупочными, производственными и культурными задачами. Отчетные собрания созывались ежегодно не позже апреля для подведения итогов деятельности за истекший операционный год, утверждения отчета и баланса, сметы расходов и плана действий на следующий год, распределения прибыли, перевыборов кооперативного актива. Чрезвычайные общие собрания созывались по инициативе правления, требованию ревизионной комиссии или группы членов, отражая право каждого пайщика принимать участие в делах своего общества. С другой стороны, на пайщиков устав возлагал определенное бремя ответственности за судьбу кооператива пунктом о том, что никто из членов не вправе без уважительных причин отказываться от исполнения возлагаемых на него общим собранием обязанностей [Нормальный устав…, 1998. С. 81–83].
Если общее собрание было высшим органом, то исполнительным являлось правление, осуществлявшее непосредственное руководство делами. В составе 5–9 чел. правление выполняло широкий круг обязанностей при помощи штата наемных служащих – приказчиков, счетоводов, кассиров. Общее собрание избирало также контролирующий орган – ревизионную комиссию, наблюдавшую за законностью действий правления, соблюдением устава, исполнением решений общих собраний, ведением делопроизводства, дававшую заключения по годовым отчетам, сметам и другим важным вопросам. Согласованная солидарность правления и ревизионной комиссии являлась для пайщиков самым высоким авторитетом [Там же. С. 84–86].
Внутренняя жизнь городских кооперативов в Сибири, развитие кооперативной самодеятельности и самоуправления, повседневное взаимодействие кооперативного актива и пайщиков были отмечены острыми разногласиями, конфликтными ситуациями, борьбой группировок и личностей. Характерные проблемы были связаны с абсентеизмом, равнодушием и пассивностью пайщиков, с одной стороны, и тенденцией к групповщине в управлении, авторитарному и неколлегиальному стилю руководства – с другой. Облеченные властью и обремененные ответственностью лидеры были склонны игнорировать мнение рядовых участни- ков, стремились выйти из-под их контроля. Малоинформированные, подверженные эмоциям и одержимые эгоистическими частными интересами рядовые члены нередко проявляли демагогическое и неконструктивное поведение. «Со стороны членов всякое содействие отсутствует», – констатировалось в отчетном докладе правлением кооператива «Труженик» в Тобольске в 1912 г. [Отчет…, 1912. С. 33]. О пассивном отношении пайщиков к кооперации писал и один из членов кооператива «Деятель» в Томске: «У нас 129 человек из 420 совершенно не имеют пая, около 100 человек – не полнопайные… Невнесенные паи объясняются не тяжелыми материальными условиями членов (рабочий у нас – самый аккуратный член кооператива), а просто равнодушием и нежеланием. Такое отношение наблюдается исключительно со стороны членов интеллигентных профессий и чиновников. Кроме того, на деньги сплошь и рядом они берут у лавочника, а в кредит – в «Деятеле». Да требуют еще дивиденда!» (Союз потребителей. 1915. № 15. С. 71). По данным анкетирования, проведенного правлением «Деятеля» среди кооператоров Томской губернии, в качестве причин, задерживавших развитие кооперации, на первое место были поставлены «инертность членов, особенно заметная во всесословных городских обществах», и «желание извлечь как можно больше выгод из кооператива, а ему ничего не дать» (Там же. 1915. № 17–18. С. 540).
Данные о посещаемости общих собраний рисуют картину своеобразного кооперативного абсентеизма. Половина из созванных в 14 сибирских городских кооперативах в 1915–1916 гг. 79 общих собраний из-за отсутствия кворума не состоялась. Несостояв-шееся общее собрание, частное совещание с малочисленным составом участников и повторное собрание были достаточно частыми событиями кооперативной жизни. О низкой посещаемости общих собраний писало, например, правление городского кооператива в Енисейске: «Дела общества “Самопомощь” идут внешне весьма благопристойно. Растет число членов, оборот и популярность. Но нет повода для оптимизма у друзей общества, рядовой член проявляет большое равнодушие к его делам. Вначале проявляли большой интерес, суетились, в большом количестве приходили на собрания. Но вот кооператив учрежден, лавка открыта, тор- говые дела идут успешно, а обыватель об обществе как будто и забыл, зато он хорошо помнит о лавочке и посещает ее весьма усердно. Собрания посещаются все меньшим числом членов, а последнее не состоялось – явилось 50 членов из 700 с лишним» (Сибирская жизнь. 1916. 7 июня. С. 3). Нерегулярное посещение пайщиками общих собраний не только тормозило коммерческую деятельность, но и приводило к деформации демократических норм внутренней жизни кооператива. Например, члены Барнаульского «Сотрудника» часто упрекали правление, что кооперативом руководит не народ. «Однако, – писал один из пайщиков, – злобные нападки на правление делу не помогут. Может быть, надо заменить правление, но приходят на собрание несколько десятков из четырех тысяч, разве не будет здесь узкой групповой борьбы за власть?» (Жизнь Алтая. 1916. 2 нояб. С. 3). После провала ряда собраний в 1916 г. новониколаевская «Экономия» внесла изменение в свой устав, снизив норму демократического представительства с 25 до 15 членов, причем если кворума не оказывалось, то собрание начиналось через час после назначенного времени и считалось законным при любом составе (Голос Сибири. 1916. 28 сент. С. 4).
В целом, многообразие повестки общих собраний, неформальный характер процесса обсуждения и принятия решений отличали демократическое самоуправление во всесословных и независимых рабочих кооперативах от его имитации в казенных кооперативных организациях. Протоколы и отчеты об общих собраниях свидетельствуют, что их участники стремились к соблюдению законности и равноправия, осуществлению гласности, компетентного, сознательного и заинтересованного отношения к решению вопросов, культивировали соответствующие процедуры и регламент. По вопросам утвержденной повестки выступали заранее подготовленные докладчики или специальные комиссии. Доклады часто вызывали «бурные прения», «оживленные обсуждения», «оживленные дебаты», «страстные прения», «горячие споры», «заинтересованное отношение», «шумные аплодисменты», «шумные рукоплескания». Как правило, учредительные, годичные отчетные и чрезвычайные общие собрания в отличие от текущих привлекали больше членов, имели более дискуссионный характер проведения, были «многолюдными», «бурными», длились по нескольку часов, заканчиваясь далеко за полночь. Подчеркивая важность для развития кооперативной самодеятельности участия членов в общих собраниях, правление общества потребителей «Самодеятельность» в Красноярске отмечало: «Мало внести пай, забирать товар в лавах общества. Каждый член общества должен принимать действенное участие в общей работе, вносить свои предложения, разбирать, критиковать, оценивать проекты правления» (Самодеятельность потребителя. 1916. № 1–2. С. 7). Голосование на общих собраниях было равным независимо от числа паев, но право голоса предоставлялось только действительным членам общества, т. е. тем, кто оплатил хотя бы один паевой взнос. Неполнопайщики права голоса не имели, если в отношении них не было принято специальное решение. Для того чтобы у членов сложилось четкое понимание сущности принимаемых постановлений, резолюции по обсуждаемым вопросам расчленялись на отдельные смысловые блоки, которые ставились на голосование поочередно. Постановления общего собрания фиксировались в протоколе, заверявшемся кооперативным активом.
На общих собраниях разрешались характерные для кооперативной действительности противоречия между демократическими нормами самоуправления и контроля, закрепленными в уставах, и их реальным воплощением. Активная часть пайщиков требовала права участия в процессе управления кооперативом, получения более четкой и достоверной информации о текущих делах, большей прозрачности в деятельности управляющих органов, проницаемости отношений между рядовыми членами и кооперативными руководителями, коллегиальности управления, ответственного обращения вождей с делегированными «снизу» полномочиями. Об этом свидетельствуют протоколы и отчеты об общем собрании «Экономии» в Новониколаевске 27 ноября 1916 г. (Голос Сибири. 1916. 29 нояб. С. 4), чрезвычайном собрании 13 сентября 1915 г. (Объединение. 1916. № 10. С. 18; Сибирская жизнь. 1916. 5 мая. С. 3) [Протокол…, 1916. С. 25–26] и отчетном годовом собрании 8 мая 1916 г. в томском «Деятеле» 1 [Там же. С. 5] (Сибир- ская жизнь. 1916. 12 мая. С. 3; Утро Сибири. 1916. 12 мая. С. 2; 24 июля. С. 2), общих собраниях 24 марта и 14 августа 1916 г. в барнаульском «Сотруднике» (Жизнь Алтая. 1916. 5 июля. С. 3; 17 авг. С. 3; Голос Сибири. 1916. 20 авг. С. 3), собрании Городского общества потребителей г. Омска 17 января 1916 г. (Омский вестник. 1915. 22 дек. С. 3; Степной край. 1916. 16 янв. С. 3; 6 марта. С. 3), собраниях в течение 1916 г. в обществе потребителей «Экономия» в Верхнеудин-ске (Иркутский кооператор. 1916. № 1. С. 9), «Трудовая копейка» на станции Иланская Томской железной дороги (Объединение. 1916. № 8. С. 19), Мариинске (Сибирская жизнь. 1916. 20 апр. С. 3–4), Ачинске (Самодеятельность потребителя. 1916. № 1–2. С. 25) и др.
В результате драматических «баталий» пайщики добивались ратификации пункта устава о праве присутствия как членов ревизионной комиссии, так и рядовых членов общества на заседаниях правления с правом совещательного голоса. Политика открытых дверей не давала реальной власти, но приближала рядовых членов к управлению, повышая степень их информированности и возможность контроля за деятельностью правления. Осуществляя этот контроль, кооператоры проявляли особое внимание к отчетным кампаниям, придирчиво обсуждали доклады, представляемые правлениями и ревизионными комиссиями, объявляли им благодарность или критиковали, выносили руководству порицание или вотум недоверия, переизбирали или отправляли в отставку, назначали специальные комиссии по расследованию деятельности управляющих органов.
Имущественные и социальные различия в массе членов в совокупности с тем, что подавляющее большинство кооперативных руководителей во всесословных городских кооперативах принадлежало к социально благополучным слоям населения, оказывали дезинтегрирующее влияние на кооперативный коллектив. В рабочих обществах с более однородным составом присутствовала более высокая степень интеграции. Объективной основой противоречий в кооперативных сообществах являлись провалы, связанные с коммерческой деятельностью, не оправдавшиеся надежды пайщиков обрести в кооперативе новый социальный порядок и справедливость. Противоречивость настрое- ний и риторики кооперативной аудитории в обществах потребителей с неоднородным социальным составом обуславливала то, что работа правления оказывала практически судьбоносное влияние на их существование, поддерживая или нарушая баланс бесчисленных интересов и сложностей, связанных с отношениями между членами, разногласиями, подозрениями, ревностью и т. п. Кроме отличного знания рынка и коммерческого чутья, от лидеров требовалось внимательное наблюдение и деликатное отношение на каждой ступени их общественной работы. С целью сплочения участников кооперативной организации и развития самодеятельности кооперативный актив вовлекал пайщиков в работу различных комиссий (помощи беженцам, устройству лекций на кооперативные темы и т. п.) (Сибирская жизнь. 1915. 16 окт. C. 4) и порайонных комитетов для наблюдения за работой лавок 2 (Голос Сибири. 1916. 7 дек. C. 4). С помощью анкетирования выяснялись данные о предпочтениях членов в организации досуга, способах участия в жизни общества, пожеланиях и предложениях относительно его деятельности (Жизнь Алтая. 1916. 15 янв. С. 3; Омский телеграф. 1916. 3 марта. С. 3; 18 марта. С. 3; 27 мая. С. 4). К кооперации приобщались женщины и подростки (Голос Сибири. 1916. 13 дек. С. 4), развивалась культурная работа.
В целом, данные о внутренней жизни сибирских городских и рабочих потребительских кооперативов дают возможность утверждать, что им были присущи определенные атрибуты школ гражданственности и социального самосознания. Внутренняя жизнь кооперативов развивалась на основе выборности, отчетности и сменяемости управляющих органов. Принцип двоецентрия – наличия правления и ревизионной комиссии – создавал заслон от бюрократизации, злоупотреблений, некомпетентности, вовлекал в кооперативную работу большее число обывателей. Внутренние конфликты находили каналы выхода в публичное пространство общих собраний и прессы, административные органы. Конструктивными последствиями этого являлось привлечение внимания к кооперативным проблемам со стороны пайщиков, общественности и власти, что, в свою очередь, способствовало росту актив- ности членского состава, посещаемости общих собраний, формированию в ходе их проведения атмосферы заинтересованности, воодушевленности и единения вокруг «общего дела», расширению круга ораторов. Общие собрания функционировали в качестве высшей и конечной инстанции при решении вопросов любого содержания и сложности. Участвуя в них, кооператоры приобретали опыт общественной деятельности, учились вести диалог, выражать свое мнение, сближать позиции в ходе дискуссии, принимать согласованные решения и нести за них ответственность. Осуществление права большинства на причастность к процессам принятия решений с неизбежностью ставило вопрос о повышении культуры членского участия, компетентности, сознательности, ответственности и личной отдачи рядовых кооператоров не в меньшей степени, чем управляющего актива, что указывало на взаимозависимость кооперации от культурно-общественной среды, модерни-зационых и урбанизационных процессов.
В ряду общественных структур кооперация как общественно-торговая организация занимала особое место. Кооперативы всегда локальны, прочно привязаны к меркантильным, узким групповым интересам, вполне эгоистичны и даже «шкурны» в отличие от прочих общественных организаций, объединявших единомышленников, преследовавших идеальные цели и не распределявших прибыль. В то же время потребительские кооперативы представляли собой постоянно работавшие организации для выполнения конструктивных задач в целях постепенного улучшения качества жизни всего населения, широкое общественное поприще без крайностей эгоизма и самопожертвования. Действуя на основе норм демократического представительства и контроля, выборности, подотчетности, коллегиальности кооперативы способствовали преодолению индивидуального эгоизма членов, освоению ими «школы общественности», где пайщики учились связывать свои частные интересы с коллективными и универсальными целями общего блага. Переход на уровень формулирования, продвижения и защиты широких общественных интересов привносил в кооперативную работу гуманитарную и гражданскую составляющие, дополнял групповой интерес общественным, превращал в одну из форм гражданского самоуправления.
Основная деятельность городских потребительских кооперативов протекала в предвоенные и военные годы в условиях ограничения и разрушения рынка. Заслуга городских и рабочих кооперативов Сибири состояла: 1) в постановке задачи связи с местным самоуправлением; 2) в активизации потенциала городских структур, общественных организаций и населения для борьбы с продовольственным кризисом; 3) в выполнении огромного объема конкретной работы по снабжению населения, поставок для армии. В тесном контакте с городскими продовольственными органами кооперативы осуществляли распределение дефицитных продуктов по карточной системе, реализуя собственные и муниципальные заготовки. Беспрецедентные усилия кооперативов по снабжению населения в годы войны продуктами и предметами первой необходимости – хлебом, мукой, мясом, маслом, сахаром, керосином и т. п. – явились важнейшим вкладом в поддержание стабильности общества. В сибирских городах в это время продукты из кооперативов получали до одной трети всех жителей. В мелких городских поселениях кооперативы нередко становились монопольными хозяевами местного рынка.
Помимо практической хозяйственной и торговой работы кооперативы поднимали и решали целый комплекс общественнозначимых вопросов. К ним относились: разработка сложных проблем организационноэкономического функционирования модели кооперативной организации; критически-оппозиционное отношение к существовавшей общественно-политической системе и выдвижение требования демократических реформ; выполнение общенациональной повестки дня в годы войны; постановка задачи сотрудничества с местным самоуправлением и разработка методов ее осуществления, учитывавших природу кооперативных организаций; справедливое распределение дефицитных ресурсов; трудоустройство и охрана труда; содействие развитию кооперативного и общего школьного и внешкольного образования, библиотечного дела, досуговой сферы, создание народных домов как центров кооперативной и культурной жизни; улучшение бытового обслуживания в области здравоохранения и юридической защиты; борьба с алкоголизмом; помощь малоимущим; благотворительность.
Сотрудничество с местным самоуправлением, активизация самодеятельности населения и нацеливание его на самообеспечение и контроль «снизу» дополняли экономическую функцию кооперативов социально-интегративной. Именно эта социально-интегративная сторона позволяет рассматривать кооперацию в контексте идеи гражданского общества, характеризующегося высоким уровнем самоорганизации народа. В годы войны потребительская кооперация превратилась в мощный фактор национальной мобилизации и регулирования общественно-экономической жизни. Участие в решении продовольственного вопроса совместно с городскими властями наделяло кооперативы функциями местного общественного самоуправления. Кооперация устанавливала отношения между обществом и властью, являясь их легальной опосредованной структурой. Соединение в практической работе двух важнейших форм местной жизнедеятельности – потребительской кооперации и органов городского самоуправления – могло бы явиться одним из основных факторов формирования гражданского общества на региональном уровне.
Несмотря на неоднозначность реального кооперативного опыта, потребительская кооперация представляла собой один из каналов продвижения в сознание и повседневную практику городского социума ценностей и норм гражданского самоуправления, предложила и апробировала модель общественного самоуправления, закрепить позитивный тренд развития которой не позволил кратковременный исторический срок, отпущенный деятельности свободной самодеятельной кооперации в России. В последующий период кооперация уже не имела возможности проявить свой потенциал в этой области.
Список литературы Городская потребительская кооперация в Сибири в начале XX века: опыт общественного самоуправления
- Голос Сибири (Новониколаевск). 1916. 20 авг., 28 сент., 29 нояб., 13 дек.
- Емельянов И. В. Экономическая теория кооперации. Экономическая структура кооперативных организаций / Пер. сангл.; вступ. ст. С. А. Пахомчика Тюмень: ТОГИРРО, 2005. 304 с.
- Жизнь Алтая (Барнаул). 1916. 15 янв., 5 июля, 17 авг., 2 нояб.
- Значение кооперации в экономической и общественной жизни // Кооперация: страницы истории / Под ред. Н. К. Фигуровской: В 3 т. М., 1998. Т. 1, кн. 2. С. 335-338.
- Иркутский кооператор. 1916. № 1.
- Нормальный устав потребительных обществ, утвержденный 13 мая 1897 г. // Кооперация: страницы истории / Под ред. Н. К. Фигуровской: В 3 т. М., 1998. Т. 1, кн. 2. С. 78-90.
- Объединение (Москва). 1916. № 8, 10.
- Омский вестник. 1915. 22 дек.
- Омский телеграф. 1916. 3, 18 марта, 27 мая.
- Отчет общества потребителей «Труженик» в г. Тобольске. 3-й год. Тобольск, 1912. 30 с.
- Протокол общего собрания от 13 сентября 1915 г. // Томское общество потребителей «Деятель». Отчет за 1915 г. Томск, 1916. С. 5-7.
- Самодеятельность потребителя (Красноярск). 1916. № 1-2.
- Сибирская жизнь (Томск). 1915. 5 мая, 5 июля, 17 авг., 16 окт.; 1916. 20 апр., 5, 12 мая, 7 июня.
- Соболев А. В. Кооперация: экономические исследования в русском зарубежье. М.: Дашкови К, 2012. 364 с.
- Союз потребителей (Москва). 1915. № 15, 17-18.
- Степной край (Омск). 1916. 16 янв., 6 марта. Утро Сибири (Томск). 1916. 12 мая, 24 июля.