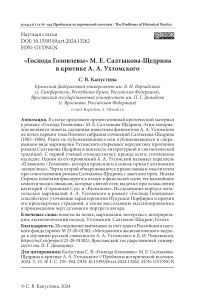«Господа Головлевы» М. Е. Салтыкова-Щедрина в критике А. А. Ухтомского
Автор: Капустина С.В.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 1 т.22, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье предложен презентативный критический материал к роману «Господа Головлевы» М. Е. Салтыкова-Щедрина. Этим материалом являются пометы, сделанные известным физиологом А. А. Ухтомским на полях первого тома из Полного собрания сочинений Салтыкова-Щедрина (1905-1906). Ранее не публиковавшиеся или публиковавшиеся в сокращенном виде маргиналии Ухтомского открывают перспективу прочтения текста Салтыкова-Щедрина в контексте литературной и святоотеческой традиций. С первой ученый отождествляет, прежде всего, гоголевское предание. Одним из его проявлений А. А. Ухтомский называет параллель «Плюшкин / Головлев», которая проясняется сквозь призму антиномии «вещи / ли́ца». Черты второй обнаруживаются православным мыслителем при сопоставлении романа Салтыкова-Щедрина с заветами преп. Исаака Сирина: пометами фиксируется отзвук в финальной сцене тех важнейших семантических нюансов, которые святой отец выделил при осмыслении категорий «Страшный Суд» и «Раскаяние». Исследование корпуса читательских маргиналий А. А. Ухтомского к роману «Господа Головлевы» способствует уточнению характерологии Иудушки-Порфирия и причин его предсмертных страданий, а также воссозданию черт духовного портрета автора, эксплицированных в произведении.
Пометы на полях, маргиналии, интертекст, интерпретация, аксиологический подход, ухтомский, салтыков-щедрин, гоголь
Короткий адрес: https://sciup.org/147243488
IDR: 147243488 | DOI: 10.15393/j9.art.2024.13262
Текст научной статьи «Господа Головлевы» М. Е. Салтыкова-Щедрина в критике А. А. Ухтомского
П ометы известного физиолога Алексея Алексеевича Ухтомского на полях прочитанных им книг исследователи Г. М. Цу-рикова и И. С. Кузьмичев назвали «совсем миниатюрным жанром» его «самобытной интеллектуальной прозы» [Цурикова, Кузьмичев: 3]. Однако лаконичность маргиналий Ухтомского не противоречит их информативной насыщенности. В частности, большой литературно-критический потенциал имеют пометы ученого к роману «Господа Головлевы» М. Е. Салтыкова-Щедрина.
Свои идеи и ассоциации, возникающие в процессе «погруженного» чтения этого произведения, Ухтомский максимально сжато фиксировал на полях книги из личной библиотеки — первого тома Полного собрания сочинений М. Е. Салтыкова-Щедрина издания А. Ф. Маркса (1905–1906)1. Этот экземпляр сохранился в фонде редкой книги библиотеки Санкт-Петербургского государственного университета, однако содержащийся в нем рукописный материал Ухтомского до сих пор не был опубликован2.
Единственная попытка введения полного корпуса читательских помет Ухтомского в контекст академической эдиционной практики была осуществлена в сборнике «Интуиция совести: Письма. Записные книжки. Заметки на полях» (1996) под редакцией А. С. Батуева3. Однако в этой работе была допущена концептуальная ошибка: публикация поясняющих записей ученого сделана «в изоляции» от поясняемого. Таким решением составители будто бы подчеркивали смысловую полновесность маргиналий Ухтомского, пытались скрыть их вто-ричность по отношению к условному «прототексту», но фактически — пренебрегли важнейшим указанием на те «импульсы» комментируемого произведения, которые побудили вдумчивого читателя к рефлексии.
В. Н. Захаров, предупреждая о подобных публикационных оплошностях, настаивал на сохранении зримого единства исходника и дополняющих его маргиналий, при котором в последних «происходит параллельное развитие темы, образуется метатекст к основному тексту» [Захаров: 85]. Полагаем, что пометы Ухтомского, отражая восприятие романа «Господа Головлевы» глубоко верующим православным читателем, открывают новые интертекстуальные горизонты одного из самых аксиологически неоднозначных сочинений Салтыкова-Щедрина.
Цель настоящей статьи — рассмотрение малых форм рукописного наследия А. А. Ухтомского в качестве рецептивного критического комментария к роману «Господа Головлевы». Такой — нетрадиционный для академического литературоведения — формат критики тем не менее содержательно резонирует с фундаментальными работами специалистов по творчеству М. Е. Салтыкова-Щедрина4, открывает этическую перспективу романа «Господа Головлевы», формирует представление о духовных устремлениях не только героев, но и автора.
Ученый широчайшего научного диапазона, создавший универсальное антропологическое учение о доминанте, пытливый проницатель психологии религии и религиозного опыта, Ухтомский часто иллюстрировал собственные теоретические заключения примерами из литературы, которую осознавал как «органическую часть того предания, в мире которого жили и живут русские люди» [Хализев: 25]5. Вполне очевидно, что и его маргиналии к роману Салтыкова-Щедрина — результат своеобразной «апробации» на литературном материале учения о двойнике и заслуженном собеседнике. Посредством выведенных этических законов Ухтомский поясняет как траекторию духовного движения и исход земной жизни Порфирия Головлева, так и проявления в тексте аксиологических приоритетов автора.
В корпусе маргиналий Ухтомского, нацеленных на характерологию Иудушки, рационально выделить два интертекстуальных направления, которые имеют литературоведческую значимость и соотносятся с гоголевской и святоотеческой традициями.
Роман «Господа Головлевы» можно небезосновательно назвать «самым гоголевским» в творчестве Салтыкова-Щедрина: исследователи разных поколений констатировали его поэтологическую ориентированность на «Мертвые душ и»6. и тем самым видя себя "в месте злачнем" в "предбудущей жизни", впервые обретает надежду. Внезапное прозрение героя может быть понято только в системе координат бинарной православной ментальности» [Есаулов: 9]. Попытки развития темы «Салтыков-Щедрин и Православие» не часто, но все же предпринимаются современными исследователями (см., напр., статьи Э. М. Жиляковой [Жилякова], Т. И. Хлебянкиной [Хлебянкина]).
Как отмечает Н. П. Ларионова, «на момент выхода в свет первых глав будущего романа критики отмечали, что образ Иудушки, созданный Салтыковым-Щедриным, занял достойное место среди уже имеющихся в литературе типов, "каковы Чичиков, Ноздрев, Собакевич, Коробочка, Простакова, Плюшкин и др."» [Ларионова].
Именно с последним из перечисленных персонажей Гоголя Ухтомский соотносит Порфирия Головлева, потерявшего мать и переживающего «чадъ плотскаго вожделѣнiя» Евпраксеюшки ( СЩ : 324). На левом боковом поле книжной страницы он вертикальной линией отчеркнул абзац, повествующий о встрече Иудушки с отвлекшейся от кутежа экономкой, и сопроводил графическую отметку записью: «Плюшкинъ.» 7 ( Ухтомский : 324).
Учитывая то, что выделенный А. А. Ухтомским фрагмент начинается с описания внешнего вида Головлева ( «въ засален-номъ халатѣ, изъ котораго мѣстами выбивалась уже вата; онъ былъ блѣденъ, нечесанъ, обросъ какой-то щетиной вмѣсто бороды» (СЩ : 324) ) , можно сделать поверхностный вывод о том, что основной критерий соотнесения Иудушки с Плюшкиным — портретное сходство. Однако вертикаль, проведенная Ухтомским под текстовой маргиналией, на строках о внешности Головлева не прерывается, распространяясь и на последующий диалог. Значит, и этот отрывок, по Ухтомскому, указывает на сходство героев. В чем же оно заключается?
Для ответа на поставленный вопрос обратимся к указанному фрагменту:
«— Баринушка! Что такое? что случилось? — бросилась она къ нему въ испугѣ.
Но Порфирiй Владимiрычъ только глупо-язвительно улыбнулся въ отвѣтъ на ея восклицанiе, словно хотѣлъ сказать: а ну-ка, попробуй теперь меня чѣмъ-нибудь уязвить!
— Баринушка! да что такое? Говорите, что случилось? — повторила она.
Онъ всталъ, уставилъ въ нее исполненный ненависти взглядъ и съ разстановкой произнесъ:
— Если ты, дѣвка распутная, еще когда-нибудь… въ кабинетъ ко мнѣ… Убью!» ( СЩ : 324).
Во-вторых, попытаемся объяснить этот фрагмент сквозь призму этического учения Ухтомского.
Итак, Иудушка Головлев, испытывая ненависть к другому лицу — Евраксеюшке — и, следовательно, все более сосредоточиваясь на себе, грозит ей убийством, если она войдет в кабинет. Почему для него принципиально важна эта локация? Отчего он так выделяет свою рабочую комнату среди прочих помещений? Думается, недопущение «дѣвки распутной» именно в кабинет объясняется тем, что он стал для Иудушки суррогатом кельи, в которой хоть и был киот со святыми образами, но почитались, прежде всего, «предметы стяжанiя» ( СЩ : 219). В кабинете герой «стоялъ на молитвѣ <…> не потому, что лю-билъ бога и надѣялся посредствомъ молитвы войти въ обще-нiе съ нимъ, а потому что боялся черта и надѣялся, что богъ избавитъ его от лукаваго» ( СЩ : 219); в нем же служил своему идолу, воспринимаемому как «святое дѣло», — цифре ( СЩ : 331).
Иллюстрируя мысль об одержимости Иудушки цифрами, Салтыков-Щедрин написал: «Онъ стучитъ на счетахъ, выводитъ на бумагѣ столбцы цифръ — словомъ готовитъ все, чтобъ изобличить Арину Петровну» ( СЩ : 331), а Ухтомский подчеркнул эти строки карандашом и сделал помету: « Образованiе тео-рiи-экрана » ( Ухтомский : 331). Приведенная маргиналия поясняется контекстом из письма Ухтомского его близкому другу В. А. Платоновой от 12 декабря 1937 г.: «И когда человек принял природу за мертвую и вполне податливую для его вожделений среду, <…> это лишь закрыло от человеческих глаз ту содержательную и обязывающую правду, которою живет действительность. Ослеп, оглушился человек своими страстями <…>. И тогда само собою двойник застилает для человека реального собеседника. Двойник становится как экран между человеком и собеседником, подменяя последнего двойником. <…> И нужен обыкновенно немалый труд, прежде чем экран будет пробит к собеседнику в его подлинном содержании»8 .
Следовательно, Порфирий Головлев закрыт от других (даже фантазийных собеседников) скорлупой двойничества, крепнущей от того, что в его сознании произошла подмена святого профанным. Герой будто бы овеществляет иконы и одухотворяет вещи. Эта характеристика, безусловно, обнаруживает внутреннюю близость Головлева с Плюшкиным и, по Ухтомскому, указывает на одинаково искаженную для них Истину: «Для того, кто видит в мире одни лишь более или менее повторяющиеся в е щ и и связи между в е щ а м и, — истина есть удобная для меня, моя собственная абстракция, которая меня успокаивает, удовлетворяет и вооружает для новых побед над в е щ а м и. Для тех же, кто однажды учуял в мире лицо, истина есть страшно важная и обязывающая задача жизни, все отодвигающая в истории вперед, драгоценная и любимая» ( Ухтомский, 1996 : 244).
Однако Ухтомский оставляет надежду на прозрение Иудушки. Напротив подчеркнутых строк «Въ этомъ омутѣ фантастичес-кихъ дѣйствiй и образовъ главную роль играла какая-то болѣз-ненная жажда стяжанiя» ( CЩ : 322) он написал: « Доминанта лица, выделившаяся, как дайк выветривания, к старости »9 ( Ухтомский : 322). Значит, «экран» двойника может быть пробит Головлевым переориентацией на другое лицо, но для этого герою, подобно дайку (т. е. каменному нагромождению, столетиями приобретающему свою форму под действием ветра), нужно закалиться испытаниями, обрести силу — хотя бы к финалу земного пути. В противном же случае он обрекает себя на вечную слабость: ведь, по Ухтомскому, только «слабые люди предпочитают жить с вещами, чем с человеческими лицами» ( Ухтомский, 1996 : 394).
Важно, что доминанта лица пусть скоротечно, но все же проявляется в сознании и Головлева, и Плюшкина. Персонаж «Мертвых душ», единственный из всех помещиков, показан в динамике. Мы узнаем его прошлое (раньше был просто рачительным хозяином) и видим свет на его лице, когда он вспоминает приятеля юношеских лет. Салтыков-Щедрин также показывает изменение Иудушки: как в Плюшкине, в нем на мгновение пробуждается «какая-то искорка», когда возвращается его сын (СЩ: 261). Но рядом с упоминанием «искорки» в душе Порфирия Владимировича Ухтомский замечает на полях: «Логически, но действующее начало, дающее точку опоры, хотя и ложную! И причина ложной религiозности не въ физiо-логiи, а въ психологическомъ (нравственномъ) факте» (Ухтомский: 261).
Думается, «причина ложной религиозности» Иудушки в том, что он обращается к Богу лишь из боязни бесовщины. Он не воспринимает Творца и Искупителя как всеобъемлющую Любовь, не укрепляется Его заветами, а лишь механически отбивает земные поклоны у киота и отвлеченно произносит текст молитв, надеясь, что такая «вера» убережет его от тьмы. Примечательно, что и Ухтомский, наблюдая «духовную практику» Головлева, недоумевает: « Что же онъ называлъ "молитвою"? Что это было за психологическое состоянiе? Какъ это укрѣпило его на предательство?» ( Ухтомский : 300–301). Этими вопросами исследователь задается по поводу молитвы Иудушки перед разговором с Улитой о разрыве отношений, который Головлев объясняет покорностью «воле святой», но, полагаем, они сопряжены и с размышлением о «ложной религиозности» героя-пустослова.
Предрекаемая Ухтомским доминанта лица начала проявляться в сознании Иудушки лишь в последние дни его земной жизни. Каменносердечие10 состарившегося грешника животворящими каплями Истины подточило ощущение «непосильной смуты»11, чего-то «громадного, которое до сихъ поръ нѣподвижно стояло, прикрытое непроницаемою завѣсою, и только теперь двинулось навстрѣчу, каждоминутно угрожая раздавить» (СЩ: 361–362)12. Таинственное нечто ученый идентифицировал на верхнем поле страницы как «Страшный Судъ» (Ухтомский: 362).
Этим предощущением, по Ухтомскому, объясняется происходящая в душе Иудушки переориентация от ego к alter, выразившаяся во внутренне сокрытом осознании вины перед матерью и внешне проявленном сочувствии к Анниньке. Именно племянницу, приехавшую в Головлево умирать, впервые искренне жалеет Порфирий Владимирович:
«Онъ всталъ и нѣсколько раз въ видимомъ волненiи прошелся взадъ и впередъ по комнатѣ. Наконецъ, подошелъ къ Аннинькѣ и погладилъ ее по головѣ.
— Бѣдная ты, бѣдная ты моя! — произнесъ онъ тихо» ( СЩ : 362).
Этот фрагмент помечен Ухтомским на полях двумя вертикальными линиями, слова Головлева подчеркнуты.
Сочувствие Порфирия — следствие внезапного обретения им собеседника в лице матери. Важно, что сосредоточению Головлева на другом не препятствует уход Арины Петровны в мир иной: ведь, по Ухтомскому, «ни смерть, ни мучения не могут "решить" интеграла человеческого лица, — он переживает всякие обстоятельства, вечно жив» ( Ухтомский, 1996 : 394–395). Мучимый своей виною перед Ариной Петровной, герой чувствует потребность покаяться: «…надо на могилку къ покойной маменькѣ проститься сходить!» ( СЩ : 272). Это происходит в канун Страстной пятницы, после чтения Евангелия Страстей Господних.
Салтыков-Щедрин связывает внутреннюю трансформацию Иудушки с пробуждением совести, которая в герое «не вовсе отсутствовала, а только была загнана и какъ бы позабыта, и вслѣдствие этого утратила ту дѣятельную чуткость, которая обязательно напоминаетъ человѣку о ея существованiи» (СЩ: 362). Ухтомский подчеркивает эти слова и на левом боковом поле делает помету: «Ср. Исаака Сирина о мукахъ раска-янiя любви» (Ухтомский: 362). Эта маргиналия Ухтомского открывает ценнейшую для литературоведения перспективу осмысления идей романа «Господа Головлевы» в зеркале святоотеческой традиции. В частности, ученым пунктирно отмечается параллель между чувствами стоящего на пороге смерти осовестившегося грешника и тем, «как Исаак Сирин понимал "геенну" и Суд» (Ухтомский, 1996: 216).
Следуя указанию Ухтомского, сравним содержание Слова 18 из «Слов подвижнических» преп. Исаака Сирина Ниневийского с предощущением Страшного Суда Иудушкой.
Слово 18: «Говорю же, что мучимые в геенне поражаются бичом любви! И как горько и жестоко это мучение любви! Ибо ощутившие, что погрешили они против любви, терпят мучение вящее всякого приводящего в страх мучения; печаль, поражающая сердце за грех против любви, страшнее всякого возможного наказания. Неуместна никому такая мысль, что грешники в геенне лишаются любви Божией. Любовь есть порождение ведения истины, которое (в чем всякий согласен) дается всем вообще. Но любовь силою своею действует двояко: она мучит грешников, как и здесь случается другу терпеть от друга, и весели собою соблюдших долг свой. И вот, по моему рассуждению, геенское мучение есть раскаяние. Души же горних сынов любовь упоевает своими утехами»13.
Внезапно проснувшаяся совесть Порфирия Головлева, находящегося на пограничье земного и Вечного, и есть тот самый «бич любви», против которой герой восставал «въ теченiе долгой пустоутробной жизни», преисполненной умертвий (приведенная цитата подчеркнута А. А. Ухтомским) ( СЩ : 368). «Мучениями любви», открывающимися герою «в геенне», и объясняется его «агонiя раскаянiя» ( СЩ : 368).
Примечательно, что и в непосредственном толковании Страшного Суда Ухтомским проявляются нарративы аввы Исаака: «Страшный суд в том, что в последний час в человеке окажутся одни лишь не преданные, не осуществленные, не отреагирован-ные глубины! Одни не высказанные волнения! Когда вспомнится вся жизнь и окажется ни в чем и нигде не законченной, ведь это будет одной сплошной душевной раной!» ( Ухтом ский, 1996 : 410 ).
Вину за мучения Порфирия Головлева на пороге смерти Ухтомский во многом возлагает на его создателя. Когда Салтыков-Щедрин замечает по поводу последних дней Иудушки, что «ни въ прошломъ, ни въ настоящемъ не оказывалось ни одного нравственнаго устоя, за который можно было бы удержаться», — Ухтомский пишет на полях: «Ой, въ этомъ-то повиненъ и самъ авторъ!» ( Ухтомский : 366). Своеобразный «обвинительный приговор» Салтыкову-Щедрину Ухтомский вынес сначала карандашом, а поверх него чернилами, зафиксировав на пустой половине последней страницы романа: «Но так < ъ >14 и нѣтъ "отпущенiя", нѣтъ христiанскаго исхода для грѣха и пре-ступленiя, в<ъ> сознанш автора? Слтпо и безвыходно кон-чаютъ его несчастные персонажи! И это оттого, что Христосъ понимается лишь как<ъ> отрывокъ далекаго предангя, в<ъ> большей своей части отвергнутаго и запа-кощеннаго собственнымъ духомъ глумленiя и осужденiя! а съ одними «отвлеченными чувствованiями» (=78 ) ужас жизни не побѣждается……» ( Ухтомский : 374).
Симптоматично, что Ухтомский, называя Салтыкова-Щедрина «великим писателем» ( Ухтомский, 1996 : 31), восхищаясь проникновенностью его фантастики15 и стремлением к «попытке образумить самоуверенную глупость» ( Ухтомский, 1996 : 486), все же отмечал в нем «еретическое сознание» ( Ухтомский, 1996 : 485), пренебрежение духом Христа в угоду страсти к сатире. Литератор, согласно Ухтомскому, не смог открыть героям романа «Господа Головлевы» возможности приобщиться «живой жиз-ни»16 вследствие собственной отвлеченности от Христова предания. Ухтомский подчеркнул духовную неукрепленность сатирика, указав на аксиологическую пропасть между ним и тем, кого тра диционно называют его творческим предтечей:
«…Салтыкову стал чужд и непонятен дух того же Гоголя, выразившийся в "Переписке с друзьями", дух святого сомнения к себе, поднявшийся до сожжения сатиры над людьми. Выхода из сатиры у Салтыкова нет — в нем сатира посягает на всех и все» ( Ухтомский, 1996 : 484).
Несмотря на категоричность вынесенного Салтыкову-Щедрину «обвинительного приговора», Ухтомский в процессе чтения романа «Господа Головлевы» обнаруживает некоторые «смягчающие обстоятельства». Так, строки: «около этой-то перекатной голи стелетъ Iудушка свою безконечную паутину, по временамъ переходя въ какую-то неистовую фантастическую оргiю» — ученый сопровождает сноской «(ххх)» , а внизу страницы расшифровывает: « ( ххх) Прозрение» (Ухтомский : 331). Безусловно, эта помета относится к Салтыкову-Щедрину, ведь именно он прозрел беспросветную одержимость Иудушки.
Сополагая страсть к сатире Салтыкова-Щедрина с его же страданием от болений России, Ухтомский считает, что «одно из самых вещих слов, до которых иногда возвышался в своей скорби» писатель, следующее: «…действительное единение с народом по малой мере столь же мучительно, как и сдирание с живого организма кожи ради осуществления исторических утешений. Не призыва требует народ, а подчинения, не руководительства и ласки, а самоотречения. В такие минуты к этому валяющемуся во тьме и недугах миру нельзя подойти иначе, как предварительно погрузившись в ту же самую тьму и болея тою же самою проказою, которая грозит ее истребить» ( Ухтомский, 1996 : 485). Ученый будто бы дополняет мысль Салтыкова-Щедрина православными акцентами, определяет спасающую скрепу русского народа: «Это возможно исключительно в единении через Христово предание по завету древней русской церкви. Никаких других "рецептов" нет и быть не может!» ( Ухтомский, 1996 : 485).
Маргиналии Ухтомского к «Господам Головлевым» — своеобразный камертон ценностных контекстов романа. И однословные записи ученого на полях книги Салтыкова-Щедрина, и пространные умозаключения, которыми рефлексирующий читатель заполнял страничные пустоты, ориентируют исследователей, нацеленных на открытие этической перспективы одного из самых неоднозначных сатирических произведений русской классики. Благодаря «подсказкам» основателя теории доминанты для исследователя минимизируется риск ошибочного определения объекта аксиологических ориентиров как героев романа «Господа Головлевы», так и их создателя.
Солипсичность Иудушки становится причиной его «пустоутробной жизни», в которой вещи важнее лиц, а цифры священнее ликов. В страсти Порфирия к стяжательству Ухтомский находит сходство с Плюшкиным. Важно, что гоголевский и щедринский двойники не лишаются возможности обрести собеседника, однако доминанта на лицо проявляется у них лишь на исходе земного пути.
Жажда освободиться от двойника и пробить экран, заслоняющий умертвиями благà живой жизни, возникает у Иудушки на пороге судного дня. Его агонию Ухтомский соотносит с описанными преп. Исааком Сириным муками грешников раскаянием любви. Опаляя душу о пламя «геенны» и терзаясь бичом любви, Порфирий обретает собеседника внутреннего (Арина Петровна) и внешнего (Аннинька).
Причину головлевских трагедий Ухтомский видит в авторской неукрепленности во Христе. Ученый не отрицает литературного мастерства Салтыкова-Щедрина, но ощущает в его произведениях недостаток духовной глубины.
Список литературы «Господа Головлевы» М. Е. Салтыкова-Щедрина в критике А. А. Ухтомского
- Андреева В. Г. «Доминанты» жизни и поведения Николая I в повести Л. Н. Толстого «Хаджи-Мурат» // Филологические чтения. Человек. Текст. Дискурс: мат-лы V Всерос. с Междунар. участием науч. конф. / сост. Е. А. Федорова. Ярославль: Филигрань, 2022. С. 18–31.
- Ауэр А. П. Салтыков-Щедрин и Гоголь: опыт типологического изучения // Русская литература XIX века: традиция и поэтика. Коломна: Изд-во Коломен. гос. пед. ин-та, 2008. С. 121–126.
- Ашимбаева Н. Т. Двойник или «заслуженный собеседник»: некоторые вопросы поэтики Достоевского в свете взглядов А. А. Ухтомского на человека и его отношения с окружающим миром // Достоевский и мировая культура: альманах / отв. ред. Н. Т. Ашимбаева, Б. Н. Тихомиров. СПб.: Серебряный век, 1999. № 13. С. 123–131.
- Баранов С. Ф. Гоголевские традиции в сатире М. Е. Салтыкова-Щедрина // Труды Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы: [сб. ст.]. М.: УДН им. П. Лумумбы, 1964. Т. 4: Вопросы литературоведения. Вып. 1. С. 3–20.
- Бушмин А. С. Художественный мир Салтыкова-Щедрина: избр. тр. / под ред. Д. С. Лихачева, В. Н. Баскакова. Л.: Наука, 1987. 465 с.
- Горячкина М. С. Традиции гоголевской сатиры в творчестве Салтыкова-Щедрина // Гоголь и литература народов Советского Союза: [сб. ст.]. Ереван: Изд-во Ерев. ун-та, 1986. С. 87–104.
- Дунаев М. М. Православие и русская литература: учебное пособие для духовных семинарий / под общ. ред. В. А. Шленова. Сергиев Посад: Московская духовная академия, 2009. 512 с.
- Есаулов И. А. Категория соборности в русской литературе. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1995. 288 с.
- Жилякова Э. М. Евангельские истоки скорбной сатиры М. Е. Салтыкова-Щедрина // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2001. Вып. 6. С. 298–309 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/journal/article.php?id=2628 (20.08.2023). DOI: 10.15393/j9.art.2001.2628
- Жук А. А. От Гоголя к Щедрину (эволюция поэтики русской сатиры) // Салтыков-Щедрин, 1826–1976: Статьи. Материалы. Л.: Наука, 1976. С. 145–164.
- Захаров В. Н. Поэтика и жанр маргиналий в записных книжках и рабочих тетрадях Достоевского // Проблемы исторической поэтики. 2018. Т. 16. № 3. С. 85–100 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1538994799.pdf (20.08.2023). DOI: 10.15393/j9.art.2018.5461
- Ларионова Н. П. Дантовские мотивы в романе М. Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы» // Ученые записки Курского государственного университета. 2011. № 2 (18). С. 1–8.
- Немыкина И. В. Поэтика «чужих» образов в прозе М. Е. Салтыкова-Щедрина: автореф. дис. … канд. филол. наук. Воронеж, 2006. 24 с.
- Никитина Н. С. К вопросу о гоголевских традициях в творчестве Салтыкова-Щедрина // Русская литература. Л.: Наука, 1978. № 1. С. 155–163.
- Рясов Д. Л. Немецкие образы в творчестве Н. В. Гоголя и М. Е. Салтыкова-Щедрина: к вопросу о литературной традиции // Гоголь и мировая художественная культура. Двадцатые Гоголевские чтения: сб. науч. ст. по мат-лам междунар. науч. конф. (Москва, 8–10 октября 2020 г.). М.; Новосибирск: Новосибирский издательский дом, 2021. С. 123–128.
- Федорова Е. А. Телеологический сюжет в романах «Капитанская дочка» А. С. Пушкина и «Война и мир» Толстого // Проблемы исторической поэтики. 2023. Т. 21. № 4. С. 102–129 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1700749148.pdf (20.08.2023). DOI: 10.15393/j9.art.2023.13123. EDN: JHRFCP
- Федорова Е. А., Капустина С. В. Диалог Н. В. Гоголя и М. Е. Салтыкова-Щедрина с читателем: аксиологический аспект // Филологические чтения: мат-лы VI Всерос. науч. конф. «Филологические чтения», посвященной 75-летию со дня рождения И. А. Стернина (1948–2022) / сост. Е. А. Федорова, ред. М. В. Шаманова. Ярославль: Ярославский гос. ун-т им. П. Г. Демидова, 2023. С. 187–195.
- Филиппова Э., Тодес Д. Молитва как парадигма: Алексей Ухтомский, доминанта и психофизиология спасения // Историко-биологические исследования. 2023. Т. 15. № 1. С. 7–60 [Электронный ресурс]. URL: http://shb.nw.ru/wp-content/uploads/2023/04/IBI_2023_01-4.pdf (20.08.2023). DOI: 10.24412/2076-8176-2023-1-7-60
- Хализев В. Е. Интуиция совести (теория доминанты А. А. Ухтомского в контексте философии и культурологии XX века) // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2001. Вып. 6. С. 22–43 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/journal/article.php?id=2512 (20.08.2023). DOI: 10.15393/j9.art.2001.2512
- Хлебянкина Т. И. «Святой старик» (Салтыков-Щедрин и православие) // М. Е. Салтыков-Щедрин: pro et contra: личность и творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина в оценке русских мыслителей и исследователей: антология. СПб.: Изд-во Русской христианской гуманитарной акад., 2013. С. 819–822.
- Цурикова Г., Кузьмичев И. Странная профессия — писательство // Ухтомский А. А. Интуиция совести: Письма. Записные книжки. Заметки на полях. СПб.: Петерб. писатель, 1996. С. 3–23.
- Шестопалова Г. А. Гоголевские традиции в творчестве М. Е. Салтыкова- Щедрина // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Русская филология. 2009. № 4. С. 176–181 [Электронный ресурс]. URL: https://www.philologymgou.ru/jour/article/view/1793 (20.08.2023).