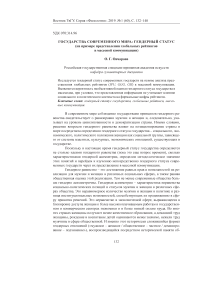Государства современного мира: гендерный статус (на примере представления глобальных рейтингов в массовой коммуникации)
Автор: Овчарова Ольга Геннадиевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Журналистика и реклама
Статья в выпуске: 1, 2019 года.
Бесплатный доступ
Исследуется гендерный статус современных государств на основе анализа представления глобальных рейтингов (IPU, GGG, GII) в массовой коммуникации. Выявляется вероятность необъективной оценки гендерного статуса государства в массмедиа, при условии, что представленная информация не учитывает влияние социального и политического контекста на формальные цифры рейтингов.
Гендерный статус государства, глобальные рейтинги, массовые коммуникации
Короткий адрес: https://sciup.org/146281340
IDR: 146281340 | УДК: 070:314.96
Текст научной статьи Государства современного мира: гендерный статус (на примере представления глобальных рейтингов в массовой коммуникации)
В современном мире соблюдение государствами принципов гендерного равенства свидетельствует о равноправии мужчин и женщин и, следовательно, указывает на уровень цивилизованности и демократизации страны. Иными словами, решение вопросов гендерного равенства влияет на позиционирование страны в мире посредством определения гендерного статуса государства – социального, экономического, политического положения женщин как социальной группы, зависящего от системы властных, культурных, экономических отношений, существующих в государстве.
Поскольку в настоящее время гендерный статус государства определяется не столько идеями гендерного равенства (пока это еще вопрос времени), сколько характеристиками гендерной асимметрии, определим методологическое значение этих понятий и перейдем к изучению непосредственно гендерного статуса современных государств через их представление в массовой коммуникации.
Гендерное равенство – это достижение равных прав и возможностей их реализации для мужчин и женщин в различных социальных сферах, а также равная общественная оценка этой реализации. Тем не менее современные общества больше гендерно асимметричны. Гендерная асимметрия – характеристика неравенства социально-политических позиций и статусов мужчин и женщин в различных сферах общества. Это неравномерное количество мужчин и женщин в политике и разница институциональных возможностей, способствующих их продвижению в сферу принятия решений. Это неравенство в экономической сфере, выражающееся в блокировке доступа женщин к более высокооплачиваемым работам в государственном и коммерческом секторах экономики и в более низкой оплате труда. Во многих странах женщины получают менее качественное образование, а домашний труд женщины, рождение и воспитание детей оцениваются менее значимо, нежели труд мужчины в сфере общественной. И именно этот исторически сложившийся формат гендерных отношений («мужское – женское / общественное – частное / доминирование – подчинение»), воспроизводящийся посредством исторической памяти об- щества, и является причиной гендерной асимметрии в современных государствах [10, с. 244–247], что и заставляет определять их гендерный статус.
Довольно отчетливо гендерный статус государств демонстрируют глобальные рейтинги. «Глобальные рейтинги как инструмент анализа, прогноза и поддержки принятия управленческих решений являются сравнительно новым феноменом, имеющим всего лишь столетнюю родословную, хотя сравнение стран друг с другом всегда лежало в основе и сотрудничества, и соперничества, и войн, и мира. Усложнение всех аспектов жизни современного общества, лавинообразное увеличение информационных потоков и интенсивности коммуникаций создали мощный спрос на рейтинги фирм, продуктов и услуг, финансовых инструментов, регионов, стран и т. п.…» [13]. Таким образом, в настоящее время позиция государства в мировых рейтингах – серьезный и важный политический барометр. Рейтинг государства по тому или иному показателю влияет на его репутацию, обеспечивает представление о потенциале развития страны в целом и определенной проблеме в этой стране, способствует самоидентификации [4, с. 4–5]. «Достижение относительно благоприятной позиции страны <…> в мировой “табели о рангах” все чаще становится важной задачей государственной политики…» [13].
Повышает необходимость достойного представления государств в глобальных рейтингах и факт их распространения в средствах массовой коммуникации, а следовательно, влияние на массовое восприятие и сознание, на формирование общественного мнения о статусе государства с позиции рейтингуемого аспекта.
Для понимания предмета нашего исследования – гендерного статуса государств современного мира – в настоящей статье будут проанализированы данные рейтингов международных организаций, которые характеризуются как надежные, а следовательно, имеют широкую медийную огласку и оценку.
Надежность рейтинговых показателей обусловливается стандартизирован-ностью и прозрачностью методик составления, приводящих к проверенному временем объективному результату, а также частотой обращения со стороны заинтересованных лиц к данным этих рейтингов. Под «частотой обращения» понимается перманентное, целенаправленное использование данных в массмедиа как реперной точки измерения гендерного равенства / гендерной асимметрии.
Итак, обратимся к результатам рейтинга представленности женщин в парламентах мира Межпарламентского союза ( IPU ), индексу глобального гендерного разрыва ( GGG ) Всемирного экономического форума и индексу гендерного неравенства ( Gender Inequality Index – GII ), публикуемому Программой развития ООН. Временной период всех указанных рейтингов – 2018 год. Поскольку рейтинги составлены на основе фиксации количественных страновых показателей гендерного неравенства в разных социальных сферах, еще одной задачей работы будет изучение природы цифр, представленных в рейтингах.
Вначале рассмотрим результаты рейтингов Межпарламентского союза ( IPU ) – международной организации, координирующей действия парламентов мира и ежемесячно фиксирующей количество женщин в верхней и нижней палатах парламентов 191 страны. Показатели в политической сфере представляются значимыми для определения гендерного статуса государства, поскольку гендерная асимметрия политики говорит об отторжении женщин от возможности определять вектор политической, а следовательно, и всех остальных сфер развития общества – экономической, социальной и т. д.
Так как не во всех государствах парламент двухпалатный, обратимся к данным по количеству женщин в нижних палатах, что позволит унифицировать резуль- таты. Также важно понимать, что иные рейтинги, анализируемые в настоящей работе, включают именно показатели Межпарламентского союза по представленности женщин в нижних палатах парламентов.
Итак, рейтинг Межпарламентского союза свидетельствует о том, что первые десять мест в мировой классификации представленности женщин в нижних палатах парламента государства на 1 декабря 2018 года занимают 9 африканских и латиноамериканских стран и 1 страны Северной Европы. Перечислим их: Руанда (61,3 %), Куба (53,2 %), Боливия (53,1 %), Мексика (48,2 %), Гренада (46,7 %), Намибия (46,2 %), Швеция (46,1 %), Никарагуа (45,7 %), Коста-Рика (45,6 %), ЮАР (42,7 %) [19]. Для сравнения приведем данные 13-летней давности, также представленные Межпарламентским союзом. Конфигурация стран-лидеров на 1 февраля 2016 года была следующей: Руанда (48,8 %), Швеция (45,3 %), Норвегия (37,9 %), Финляндия (37,5 %), Дания (36,9 %), Нидерланды (36,7 %), Куба (36 %), Испания (36 %), Коста-Рика (35,1 %), Аргентина (35 %), Мозамбик (34,8 %) [20].
Очевидно, что цифры демонстрируют положительную динамику по преодолению гендерной асимметрии в регионах, некогда бывших аутсайдерами по самым разным социально-политическим показателям, в том числе и по уровню равноправия полов. И эта же динамика показывает, как стремительно вытесняются с первых мест политической представленности женщины стран Северной Европы, и прежде всего скандинавские страны – страны-образцы последовательной и уверенной реализации политики гендерного равенства, проводившейся на почве культурно-исторических традиций приверженности граждан ценностям социального равноправия.
Однако могут ли приведенные цифры / количественные показатели гендерной асимметрии нивелировать социальные успехи скандинавских или же, к примеру, западноевропейских стран, также имеющих опыт строительства гендерно ориентированных государств? И, напротив, утверждать, что увеличение женщин в североафриканских и латиноамериканских парламентах выступит однозначным залогом влияния женщин на процессы развития в своих странах?
Проследим, как влияют показатели не только политики, но и экономики, а также иные факторы на оценку той или иной страны в международном масштабе. Обратимся к цифрам индекса глобального гендерного разрыва ( GGG ) по версии Всемирного экономического форума. ВЭФ формирует обозначенные показатели с 2006 г., ежегодно увеличивая количество стран, участвующих в рейтинге. В 2018 г. число стран, для которых рассчитывается индекс, увеличилось до 149. Индекс гендерного разрыва представляет собой «основу для измерения величины и объема гендерных различий и отслеживания их прогресса». Разрыв между мужчинами и женщинами рассматривается в четырех категориях, или субиндексах: 1) экономическое участие и возможности; 2) полученное образование; 3) здоровье и выживаемость; 4) политические права и возможности [18]. Индекс колеблется от нуля (что означает полное гендерное неравенство) до единицы (что означает полное гендерное равенство).
Согласно индексу, лидером в прошедшем году стала Исландия с общим показателем по всем субиндексам 0,858. Затем расположились Норвегия (0,835), Швеция (0, 822), Финляндия (0,821), Никарагуа (0,809). Шестое место занимает Руанда (0, 804), лидирующая в рейтинге Межпарламентского союза. Несмотря на 30-е место по субиндексу экономического участия (0,743), 109-е место (0,961) по образованию и 90-е место (0,973) по здоровью и выживаемости, вытягивает Руанду в лидирующую десятку 4-е место (0,539) в категории «политические права и возможности».
Аналогичная ситуация наблюдается и в отношении Никарагуа, попавшей на 5 место среди лидеров. Заметим, что Россия в 2018 году осталась, как и в предыдущие годы, на 75-й (0,701) строчке рейтинга. В РФ лучше всего ситуация с равенством в сфере образования – 28-е место (1), далее следуют здоровье (1 и 1-е место в рейтинге) и экономика (0,701) – 31-е место. Но гендерная асимметрия политики обеспечивает России падение в общем рейтинге: по субиндексу политических прав и возможностей наша страна находится на 123 месте (0,065) [17].
Конфигурация стран мира вне определяющего значения показателей политической представленности женщин, со всей вероятностью, будет выглядеть иным образом. Увидеть, каким, позволят цифры индекса гендерного неравенства ( Gender Inequality Index – GII ), публикуемые Программой развития ООН. Этот рейтинг рассматривает гендерное неравенство в трех основных областях: 1) репродуктивное здоровье; 2) расширение прав и возможностей; 3) экономическая активность. Также выделяются специальные категории: 1) коэффициент материнской смертности; 2) коэффициент подростковой рождаемости; 3) места в национальном парламенте; 4) процент населения, имеющего как минимум среднее образование (доля женщин и мужчин); 5) процент рабочей силы (доля женщин и мужчин) [15].
Согласно индексу гендерного неравенства-2018, страны с очень высоким уровнем развития человеческого потенциала и гендерного равенства представлены (в первой десятке) Норвегией, Швейцарией, Австралией, Ирландией, Германией, Исландией, Гонконгом (Китай), Швецией, Сингапуром, Нидерландами. Российская Федерация занимает 49-е место и находится в зоне стран с очень высоким уровнем развития человеческого потенциала и гендерного равенства. Никарагуа занимает 124-е место в группе стран со средним уровнем развития человеческого потенциала и гендерного равенства, Руанда – 158-е место и присутствует среди стран с низким уровнем развития человеческого потенциала и гендерного равенства [16].
Таким образом, на примере глобального гендерного разрыва и индекса гендерного неравенства становится очевидным косвенное влияние количественных показателей гендерной асимметрии в политике. При анализе формальных, констатирующих цифр необходимо учитывать причины и факторы, эти цифры обусловливающие. То есть мировые тенденции смещения первенства в политической представленности женщин от европейских стран к таким регионам, как Африка южнее Сахары и Латинская Америка, следует рассматривать сквозь призму причин, их формирующих.
Количественное увеличение женщин в парламентах ряда стран перечисленных выше регионов происходило посредством мер позитивной дискриминации. В 1990-е гг. в отдельных государствах Латинской Америки были приняты законы, регулирующие политическое участие женщин, а именно, введена система квот женского представительства на выборных должностях. Также в 1990-х гг., а именно в 1997 г., южноафриканские государства, входящие в Сообщество развития Юга Африки (САДК), приняли декларацию, в которой была поставлена цель установить в странах – членах этой организации представительство женщин на руководящих должностях на уровне 30 % [12, с. 42]. И в Латинской Америке, и в африканском регионе эти действия происходили согласно рекомендациям Комиссии ООН по улучшению положения женщин. Последнее, в свою очередь, способствовало развитию в этих странах демократических институтов, ранее отсутствовавших, а теперь формально приближающих страны второго и третьего регионов модернизации к странам «старой» демократии. Это отчетливо видно на примере Руанды – «земли тысячи холмов», которая восстанавливается после последствий геноцида и пытается завоевать позитивную оценку со стороны мирового сообщества.
Очевидно, что за столь короткий период у женщин не было возможности накопить достаточный потенциал для эффективного управления. Кроме того, отмена квот (как показывает мировой опыт, такие процессы нельзя исключать) в состоянии разрушить весь гендерный баланс. К примеру, в постсоветской России после отмены квотирования представительство женщин резко упало [8, с. 59], и в настоящее время наша страна с 15,8 % женщин в Государственной Думе находится на 129 месте в рейтинге Межпарламентского союза. Подобные прецеденты были и в исследуемых нами регионах Африки и Латинской Америки [11, с. 74–75].
Также следует обратить внимание на тот факт, что, несмотря на процесс феминизации политики, в странах-лидерах количественных показателей гендерного равенства во власти продолжает развиваться процесс феминизации бедности. Исследователи предполагают, что социально ориентированные решения женщин-политиков в состоянии блокироваться в силу невозможности их экономической поддержки и нерентабельности. Так, даже в обладающей экономическим потенциалом ЮАР – страны-члена БРИКС – женщины составляют подавляющее большинство среди безработных и беднейших групп населения. Несмотря на 42,7 % представленности женщин в парламенте, «в экономике женщины занимают только 25 % должностных позиций (23 % – белые, 9 % – цветные, 5 % – индианки). Доля женщин, занимающих главные должности в профсоюзах, также очень низка [1, с. 573–574].
Какой же отклик находят представленные рейтинги в массовой коммуникации? Заметим, что результаты рейтингов после их оглашения на сайтах организаций, проводивших замеры, оперативно размещаются на ведущих новостных лентах в системе Интернет, в социальных сетях, оглашаются по телевидению, сопровождаясь, естественно, оценкой экспертов. Вот лишь ряд заголовков в популярных изданиях: «Гендерного равенства два века ждут» ( kommersant.ru ), «Гендерного равенства придется ждать еще дольше» ( bbc.com ), «Гендерное неравенство в мире увеличилось в 2017 году впервые за десятилетия» ( Interfax.ru ) т. д.
Демонстрируют медиа и интерпретации влиятельных персон. Так, перед открытием 60-й сессии Комиссии ООН по положению женщин, состоявшейся в марте 2016 года в Нью-Йорке, помощник Генерального секретаря по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин Пумзиле Мламбо–Нгкука заявила: «Ни одна страна в мире, даже из числа промышленно развитых, не достигла полного гендерного равенства. Это свидетельствует об универсальности проблем, с которыми мы сталкиваемся, продвигая равенство полов» [21]. В отчете по глобальному гендерному разрыву за 2018 г. говорится: «Наиболее трудными для преодоления гендерного равенства являются аспекты расширения экономических и политических прав, для закрытия которых потребуется 202 и 108 лет соответственно. Хотя разрыв в экономических возможностях несколько сократился в этом году, прогресс был медленным, особенно с точки зрения участия женщин на рынке труда, где гендерный разрыв несколько изменился» [14].
Массмедиа дают заключения и по конкретным странам, не всегда лицеприятные. К примеру, по GGG: «Россия в общем рейтинге рухнула с 49-го на 71-е место из-за существенной потери позиций в сфере экономики и образования. Тем не менее, в образовании страна имеет практически идеальные показатели равенства, как и в медицине. По медицинским показателям (смертность младенцев, продолжительность жизни женщин и мужчин) РФ занимает 1-е место в мире. Вместе с тем ситу- ация по политическому критерию гендерного равенства в России удручает – страна занимает 121 место в мире из 144 возможных. Во многом это вызвано тем, что за последние 50 лет страной ни разу не правила женщина» [3].
Та же логика присутствует и в мнениях ученых, которые суммируют в своем творчестве основные тенденции и направления социальных процессов и феноменов, в том числе и результаты рейтингов. По словам Э. Гидденса: «Хотя роли, которые играют в различных культурах женщины и мужчины, могут существенным образом различаться, до сих пор не обнаружено такое общество, в котором женщины обладали бы большей властью, чем мужчины. Повсеместно первоочередной задачей, стоящей перед женщиной, является воспитание детей и ведение домашнего хозяйства, тогда как политическая и военная деятельность остается, как правило, прерогативой мужчины» [2, с. 125].
Вместе с тем, как уже говорилось, именно в сфере политики в настоящее время происходят трансформации показателей гендерной асимметрии. Лидерами выступают государства, ранее не являвшиеся гендерно ориентированными. Однако однозначно коррелировать количественные показатели изменения мировой конфигурации гендерной асимметрии политики с увеличением степени влияния женщин на политический процесс в своих регионах и возрастанием в них же демократизации, нельзя.
В данном контексте заметим, что некоторые рейтинги демократии включают в свои переменные такой показатель, как «доля женщин в нижней палате парламента страны». Р. Даль среди базовых параметров демократического правления выделяет «включенность». «И в прошлом, и сегодня режимы также различаются по тому, какая часть населения допущена к относительно равному участию в контроле и оспаривании действий правительства: так сказать, по степени участия в системе публичного оспаривания. Шкала, отражающая границы права на участие в публичном оспаривании, позволила бы нам сравнить различные режимы по такому признаку как включенность ( inclusiveness )». При этом политолог заключает, что включенность будет тем больше, чем больше граждан будут обладать возможностью оспаривания. Прежде всего, к ним относятся женщины. «Одна из самых развитых систем публичного оспаривания в мире существует в Швейцарии. Вряд ли кто-то возьмется оспаривать тезис о том, что швейцарский политический режим является высокодемократическим. При этом женская половина населения страны еще не допущена к общенациональным выборам» [5, с. 9–10]. Поясним: женщины Швейцарии получили избирательные права в 1971 г. Книга Р. Даля была написана до этого времени.
Авторы проекта «Политический атлас современности» (проект нацелен «на создание многомерной типологии современных политических систем и политических режимов на основе разработки и применения комплексных количественных методов сравнительного анализа» [9, с. 7]), пишут: «Представительство женщин в нижней палате парламента тесно связано с участием женщин в политической жизни в целом <…> участие женщин в легислатурах необходимо для их адекватного функционирования. Такое участие отражает общественную структуру, что важно для оптимального демократического политического управления. Без вовлечения женщин в политическую деятельность вряд ли достижимы цели равенства, развития, демократии и мира» [7, с. 155, 157].
Вместе с тем в задачи массмедиа пояснения не входят, и страны третьего мира на равных соседствуют с развитыми странами: «Показатели ухудшились во всех четырех основных областях: образование, здравоохранение и выживание, экономика и карьера, а также политические права. Особенное беспокойство экспертов вызывают последние две области, где наблюдался самый большой гендерный разрыв, но при этом и самый существенный прогресс за последние годы. Ни одной стране мира пока не удалось достичь полного равенства между полами. Ближе всего к этому подошла Исландия – ей удалось закрыть 88 % гендерного разрыва. За ней следуют Норвегия, Финляндия, Руанда и Швеция. В первую десятку вошли также Никарагуа, Словения, Ирландия, Новая Зеландия и Филиппины» [3].
Таким образом, неотрефлексированная информация в массмедиа не позволяют широкой аудитории понять, что составляющие развития и демократии весьма многочисленны. И демократические институты, в которые при помощи формальных норм встраиваются женщины стран Африки и Латинской Америки, пока только накапливают опыт своей работы, и новое политическое творчество будет определяться не только и не столько гендерной составляющей, а необходимой государству стратегией развития (разрабатываемой, однако, политическими лидерами-мужчинами). А отвлечение от «гендерного взгляда» на политику позволяет утверждать вслед за И. Крас-тевым, что демократические преимущества получают все же страны с исторически накопленным политическим опытом, страны «старой демократии», «политические лаборатории», где «рождались основные политические идеи, проводились наиболее значимые эксперименты» [6, с. 329]. В том числе и осмысленные, апробированные идеи феминизма и гендерного равенства, позволяющие надеяться на повышение гендерного статуса государств современного мира. Данные же рейтингов, представленные в массовой коммуникации, не всегда учитывающие влияние социального и политического контекста на сухие цифры, тем не менее выступают «мягкой силой», являясь при этом одним из факторов формирования субъективного общественного мнения и одним из критериев неверной оценки стабильности государства.
Russian State Specialized Academy of Arts the Department of Humanitarian Disciplines
Список литературы Государства современного мира: гендерный статус (на примере представления глобальных рейтингов в массовой коммуникации)
- Баллаева Е. А. ЮАР: политика гендерного равенства//Гендерное равенство в современном мире: роль национальных механизмов/под ред. О.А. Ворониной. М.: МАКС-Пресс, 2008. С. 572-578.
- Гидденс Э. Социология. М.: Эдиториал-УРСС, 1999. 704 с.
- Гендерное неравенство в мире увеличилось в 2017 году впервые за десятилетия //Interfax. В мире. URL: https://www.interfax.ru/world/585826 (дата обращения 07.02.2019).
- Глобальный рейтинг интегральной мощи 100 ведущих стран мира. Доклад-2008 к обсуждению. М.: Междунар. Академия исследований будущего, 2008. 148 с.
- Даль Р. А. Полиархия: участие и оппозиция. М.: Изд. дом Гос. ун-та -Высшей школы экономики, 2010. 288 с.
- Иван Крастев беседует с Ричардом Саквой «Становится все проблематичнее предсказать будущее демократии, глядя лишь в ее прошлое»//22 идеи о том, как устроить мир: Беседы с выдающимися учеными. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2014. С. 309-333.
- Индекс институциональных основ демократии//Политический атлас современности: опыт многомерного статистического анализа политических систем современных государств. М.: МГИМО-Университет, 2007. 272 с.
- Козлова Н. Н. Депутатский корпус Центрального федерального округа//Женщина в российском обществе. 2016. № 4. С. 58-71.
- Мельвиль А. Ю. «Политический атлас современности»: замысел и общие теоретико-методологические контуры проекта//Политические исследования. 2006. № 5. С. 6-14.
- Овчарова О. Г. Преодоление институциональных ограничений гендерного равенства: трансформация исторической памяти//Граждане и политические практики в современной России: воспроизводство и трансформация институционального порядка. М.: РАПН; РОССПЭН,2011. C. 244-260.
- Овчарова О. Г. Гендерное измерение политики: изменение мировой конфигурации//Человек. Сообщество. Управление. 2016. Т. 17. № 2. С. 70-81.
- Прокопенко Л. Я. Представительство женщин в органах власти (опыт стран южноафриканского региона)//Женщина в российском обществе. 2013. № 3. С. 40-50.
- Рейтинги //Институт экономических стратегий Отделения общественных наук Российской академии наук (ИНЭС). URL: http://www. inesnet.ru/topic/ratings (дата обращения: 07.02.2019).
- From stamping out stereotypes to finding your ‘spark’, here’s how to close the global gender gap //WEF. Agenda. URL: https://www.weforum. org/agenda/2019/01/women-equality-global-gender-gap-2018 (дата обращения: 06.02.2019).
- Gender Inequality Index //Human Development Reports. URL: http://hdr.undp.org/en/content/gender-inequality-index-gii/(дата обращения: 07.02.2019).
- Gender Inequality Index //Human Development Reports. URL: http://hdr.undp.org/en/composite/GII (дата обращения 07.02.2019).
- Global Gender Gap Index Results in 2018 //WEF. Results and analysis. URL: http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2018/results-and-analysis/(дата обращения: 07.02.2019).
- Measuring the Global Gender Gap //WEF. Results and analysis. URL: http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2018/measuring-the-global-gender-gap/(дата обращения: 07.02.2019).
- World classification //Women in National Parliaments. URL: http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm (дата обращения: 07.02.2019).
- World classification //Women in National Parliaments. URL: http://archive.ipu.org/wmn-e/arc/classif010216.htm (дата обращения: 07.02.2019).
- марта открывается сессия Комиссии ООН по положению женщин //Цели в области устойчивого развития. URL: http://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/2016/03/14 (дата обращения: 07.02.2019).