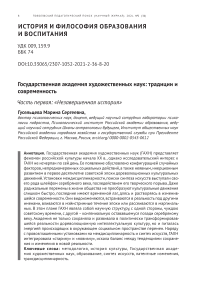Государственная академия художественных наук: традиции и современность. Часть первая: "Незавершенная история"
Автор: Гусельцева Марина Сергеевна
Журнал: Поволжский педагогический поиск @journal-ppp-ulspu
Рубрика: История и философия образования и воспитания
Статья в выпуске: 2 (36), 2021 года.
Бесплатный доступ
Государственная академия художественных наук (ГАХН) представляет феномен российской культуры начала ХХ в., однако исследовательский интерес к ГАХН не исчерпан по сей день. Ее появление обусловлено конфигурацией случайных факторов, непреднамеренных социальных действий, а также неявным, инерционным развитием в первое десятилетие советской эпохи дореволюционных культуральных движений. Установки междисциплинарности, поиски синтеза искусств выступали своего рода шлейфом серебряного века, последействием его творческого порыва. Даже радикальные перемены в жизни общества не преобразуют культуральные движения слишком быстро, последние имеют временной лаг, длясь и растворяясь в изменившейся современности. Они видоизменяются, встраиваются в реальность под другими именами, вливаются в мэйнстримные течения эпохи или рассеиваются в маргинальных. В этом плане ГАХН являла собой научную структуру, с одной стороны, чуждою советскому времени, с другой - конгениальную остававшемуся позади серебряному веку. Академия не только сохраняла и развивала в политически трансформировавшейся реальности дореволюционную интеллектуальную культуру, но и питалась энергией происходящих в окружающем социальном пространстве перемен. Наряду с провозглашенными установками на междисциплинарность и синтез искусств, ГАХН интегрировала «старину» и «новизну», искала баланс между тенденциями сохранения и изменения в новой реальности.
Методология, история культуры, государственная академия художественных наук, образование, синтез искусств, латентные изменения, трансдисциплинарность
Короткий адрес: https://sciup.org/142229503
IDR: 142229503 | УДК: 009, | DOI: 10.33065/2307-1052-2021-2-36-8-20
Текст научной статьи Государственная академия художественных наук: традиции и современность. Часть первая: "Незавершенная история"
Первая часть данной статьи содержит материалы обзорного характера1, а потому обращена прежде всего к тем, кто не знаком или мало знаком с судьбой Государственной академии художественных наук (ГАХН) в качестве уникального явления российской культуры первой трети ХХ века. При этом целью статьи является не только знакомство читателя с историей и методологией ГАХН, но и рассмотрение этого феномена через оптику антропологии науки и эволюции образования, выявление преемственности неочевидных традиций, обсуждение перспективы дальнейших исследований в этой области. Содержание и выводы второй части статьи в большей степени являются авторской интерпретацией, открытой для критики и дискуссий.
Феномен ГАХН: междисциплинарность и синтез искусства. Государственная академия художественных наук (1921–1930) представляла довольно необычную для начала ХХ в. институцию. Это была научная структура, возникшая в недрах советской эпохи, но удивляющая, прежде всего, своей неорганичностью стремительно меняющемуся времени и жизненному укладу, а именно – вневременностью, ориентацией на то, что М.М. Бахтин стол ь удачно назвал «большим временем культуры» [Бахтин 1979]. С одной 1. Основой статьи послужила презентация, подготовленная для первого открытого мероприятия Школы антропологии будущего ИОН РАНХиГС «Стратегирование “понятного завтра”: проекции осмысленного будущего» 13.12.2019 г., режим доступа: https://drive.google.com/file/d/1MxjtpW2_h-SCeQECxiPq-8zJJN495PYw/view .
стороны, ГАХН сохраняла творческий потенциал оставшегося позади серебряного века, с другой - заряжалась энергией перемен, которые испытывало российское общество после свершившейся революции. Наконец, Академия выступила экологической нишей в судьбах вполне конкретных людей – дореволюционных ученых и профессоров, обеспечивая им возможность выживания в трудное для академических занятий время.
Российская академия художественных наук (РАХН) первоначально была учреждена в Москве 7 октября 1921 г., а затем в 1925 г. переименована в Государственную академию художественных наук (ныне известную как ГАХН). Академия создавалась для решения вполне конкретной задачи – всестороннего научного исследования вопросов искусства и художественной культуры, а также проблемы синтеза искусств [Устав Г.А.Х.Н. 1927]. Формально Академия относилась к художественному отделу Главнауки Наркомпроса РСФСР. В октябре 1921 г. были утверждены Устав и Положение о РАХН. С того времени несменяемым президентом Академии стал П.С. Коган, а вице-президентами – В. В. Кандинский (1921), Н. К. Пиксанов (1922–1924), Г. Г. Шпет (1924–1929).
Именно задача рождает орган, согласно подходу Н. А. Бернштейна [Бернштейн 1990]. Исследовательская задача ГАХН предполагала изучение возможностей синтеза искусств и объединение имеющихся специалистов, работающих в этой области, и оказалась обусловлена творческими поисками начала ХХ столетия. Искусство в качестве предмета изучения представало здесь как многомерный феномен: в ракурсе психологии и естествознания оно влияло на процессы восприятия субъекта; в оптике социогуманитарных наук - воздействовало на личность и общество; с позиции философии и эстетики - преображало бытие человека в целом. Соединение науки, искусства и социокультурных движений в одном горизонте мышления требовало новой организации исследовательской деятельности [Плотников, Подземская 2017a; Плотников, Подземская 2017b]. В этой связи заметим, что ГАХН оказалась вторым примером решения следующей методологической проблемы – интеграции знаний посредством создания нетривиальной исследовательской структуры. Первым примером служил Психологический институт (1912), призванный, по мысли Г. И. Челпанова, объединить под одной крышей имеющееся разнообразие психологических исследований того времени [Челпанов 1992].
В этом контексте междисциплинарность выступила органичной исследовательской практикой ГАХН. Научная деятельность Академии изначально отличалась многофункциональностью: Академия осуществляла разработку общей теории искусства (1), служила экспертно-консультативным органом (2), являлась «центром научно-художественной мысли» (3) [Марков 1983: 150], школой гуманитарных исследований европейского уровня [Чубаров 2010] (4), а также высшим государственным учреждением, руководящим художественной деятельностью в стране (5) и одновременно творческим союзом как для дореволюционных специалистов, так и молодых научных сотрудников (6) [Плотников, Подземская 2017а].
Несколько слов следует уделить зданию, в котором разместилась Академия. Это была расположившаяся по адресу: Москва, ул. Пречистенка, д. 32, бывшая гимназия Л. И. Поливанова (1838-1899). Гимназия славилась тем, что давала качественное гуманитарное (и междисциплинарное - простиравшееся от латыни и фольклористики до физики и космографии) образование, а также готовила молодых людей к поступлению в университеты. Ее выпускники отличались свободным и критическим мышлением, склонностью к логическому и историческому анализу. В гимназии преподавали в основном профессора Московского университета, которым дозволялось работать по собственным авторским (но утвержденным министерством просвещения) учебникам. Среди выпускников известны В. С. Соловьев, А. Н. Северцов, Л. М. Лопатин, В. Я. Брюсов, М. А. Волошин, Л. Н. Толстой, С. Я. Эфрон, А. А. Алехин, М. А. Петровский и др. [Аксакова-Сиверс: 2006].
В качестве предпосылок возникновения феномена ГАХН отметим организационные, социокультурные, эпистемологические и культурно-психологические (ментальные). Одни предпосылки имели отношение к происходящим в российской культуре преобразованиям и трансформациям (организационные и социокультурные), другие касались познавательной ситуации в сфере искусства и науки (эпистемологические и ментальные).
В сложившейся социокультурной и познавательной ситуации Академия выступила невольным коммуникатором и переводчиком между дореволюционными академическими традициями и культурной политикой становящегося советского государства. Таким образом, с одной стороны, она была хранителем и транслятором культурных традиций, с другой – этнографом перемен, интегратором и супервизором, осуществлявшим экспертизу повседневности этого нового, небывалого государства.
Организационные предпосылки возникновения Академии пришли со стороны Народного комиссариата просвещения РСФСР (Наркомпроса), стремящегося контролировать практически всю культурно-гуманитарную жизнь страны в 1920–1930-е гг., а именно: сферы образования, науки, библиотечное дело, книгоиздательство, музеи, театры и кино, клубы, парки культуры и отдыха, охрану памятников архитектуры и культуры, творческие объединения, международные культурные связи и т.п. Молодое советское государство нуждалось в органе, как отвечавшем за проводимую им художественную политику, так и обеспечивающем широкую просветительскую деятельность. Одновременно оно не могло решить эти задачи без привлечения на свою сторону дореволюционных художников, ученых и специалистов. С этими целями в 1920 г. был создан Институт художественной культуры, а разработать план и программу его деятельности поручили В. В. Кандинскому и К. Ф. Юону. Так, уже в марте 1920 г. появился документ «Схематическая программа института художественной культуры» [Схематическая программа 1920].
Тема взаимодействия художников и представителей естественных наук в те времена считалась актуальной и даже модной. Однако теоретики и практики видели это сотрудничество по-разному: если план К. Ф. Юона предполагал создание большого стиля в искусстве, объединение всех видов искусства и вовлечение народных масс в художественное творчество, то художник Д. П. Штеренберг считал необходимым внедрить изучение искусств в процесс художественной педагогики [Плотников, Подземская 2017a; Плотников, Подземская 2017b].
Таким образом, появлению ГАХН предшествовали обсуждение вопросов музейной реформы и художественной педагогики при Наркомпросе, организация Института художественной культуры (ИНХУК), а также подготовленная В. В. Кандинским программа (1920), в которой тот отмечал, что «целью работ института художественной культуры является наука, исследующая аналитически и синтетически основные элементы как отдельных искусств, так и искусства в целом» [Кандинский].
Проекты и образы Академии. Помимо социокультурных предпосылок в развитии той или иной институции важную роль играют личности организаторов науки.
Так, с управленческой стороны весомый вклад в создание ГАХН внес первый нарком просвещения РСФСР (1917–1929) А. В. Луначарский, отличавшийся культуртрегерством. Анатолий Васильевич Луначарский (1875–1933) окончил первую мужскую гимназию в Киеве (1895), изучал философию и естествознание в университете Цюриха под руководством Р. Авенариуса, занимался революционной деятельностью в 1900–1905 гг., затем увлекся большевизмом. С 1906 г. по 1908 г. он возглавлял художественный отдел журнала «Образование». В дальнейшем А. В. Луначарский – академик АН СССР (1930), директор ИРЛИ АН СССР, редактор Литературной энциклопедии, автор сочинения «Религия и социализм» и множества публицистических статей. Он не только активно налаживал диалог между дореволюционной интеллигенцией и т.н. пролетарской культурой, но и помогал выжить «старой профессуре» в условиях нового, советского времени. Вопрос об учреждении Академии обсуждался на первом заседании научно-художественной комиссии в Главном художественном комитете при Наркомпросе РСФСР. Первое заседание комиссии 16 июня 1921 г. провели А. В. Луначарский и П. С. Коган (в дальнейшем – президент Академии).
Второй фигурой, сыгравшей значимую роль в возникновении ГАХН, был сотрудничавший после революции с Наркомпросом В. В. Кандинский.
Василий Васильевич Кандинский (1866–1944) учился на кафедре политической экономики и статистики юридического факультета московского университета (1885– 1891). С 1888 г. он состоял членом московского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. В 1890-1891 гг. участвовал в этнографических экспедициях, был сотрудником «Этнографического обозрения», писал рецензии, статьи, обзоры трудов в сфере фольклора, этнографии, социологии, политической экономии. В 1895 г. В. В. Кандинский решил посвятить себя живописи, отправился учиться в Германию (1909–1914), где выступил организатором свободного объединения художников разных стран в г. Мюнхене (1911). Это сообщество занималось организацией выставок в Европе, продвигало идею альманаха с целью представить произведения разных эпох и жанров искусства в качестве единого художественного наследия. Проект «синтетической книги» содержал сосуществование «высокого» и «примитивного»: «Мы поставим египтянина рядом с детским рисунком, китайца – с Руссо, народную графику – рядом с Пикассо и т.д.» [Схематическая программа 1920]. Первое теоретическое обоснование абстракционизма В. В. Кандинский осуществил в сочинении «О духовном в искусстве» (1920). 1921–1933 гг. он провел в Германии, сотрудничая с Высшей школой строительства и художественного конструирования (Баухаус), затем переехал во Францию (1934–1944).
Идеи о сближении науки и искусства В. В. Кандинский развивал еще в мюнхенский период своего творчества. Эти идеи нашли отражении в альманахе «Синий всадник»: «Сегодня я знаю намного лучше, чем тогда, как много малых корней ведет к одному великому – работе для будущего» [цит. по: Подземская 2017: 48].
В. В. Кандинский вернулся в Россию из Германии перед первой мировой войной. В сотрудничестве с Наркомпросом (1914–1921) он разрабатывал музейную реформу, вопросы художественного воспитания, написал учебный план для института художественной культуры. В 1919 г. в качестве перевода с немецкого издания вышла его автобиографическая книга «Ступени», которая была раскритикована в российской прессе как с левой, так и с правой сторон. В дальнейшем у В. В. Кандинского возникли разногласия с коллегами из Института художественной культуры. Вместо изучения формальных методов искусства и их воздействия на субъекта первоочередной задачей ИНХУК стали эксперименты в художественном творчестве. В 1921 г. В. В. Кандинский покинул ИНХУК, включившись в деятельность по организации РАХН. К новому проекту также были привлечены искусствовед, библиофил и коллекционер, историк искусства, специалист по книговедению и истории рисунка А. А. Сидоров (1891-1978), искусствовед А. Г. Габричевский (1891–1968) и другие деятели культуры.
Среди сотрудников ГАХН оказалось множество выдающихся ученых: А. С. Ахманов, А. В. Бакушинский, Г. О. Винокур, Н. Н. Волков, М. О. Гершензон, Б. А. Грифцов, А. А. Губер,
Л. Я. Гуревич, Н. И. Жинкин, И. В. Жолтовский, А. Ф. Лосев, М. А. Петровский, П. Н. Сакулин, Р. Р. Фальк, Г. И. Челпанов, В. М. Экземплярский, Н. Е. Эфрос, Б. И. Ярхо и др. В ряде заседаний Академии участвовали Н. А. Бердяев, Л. С. Выготский, П. А. Флоренский.
Академия представляла собой антиномию бюрократической машины и доверительного общения с детства знакомых друзей [Подземская 2017]. Так, если критик и историк литературы П. С. Коган (1872-1932), занимался общением с властями и официально представлял ГАХН на международном уровне, то неформальным организатором в Академии клуба интеллектуалов стал Г. Г. Шпет, сумевший создать и в дальнейшем поддерживать атмосферу творчества и свободного научного общения.
Густав Густавович Шпет (1879–1937) окончил историко-филологический факультет Киевского университета, в 1907 г. переехал в Москву, в 1912–1913 гг. стажировался в Гёттингенском университете, а также в университетах Берлина, Парижа и Эдинбурга. В 1916 г. Г. Г. Шпет защитил в качестве диссертации фундаментальный труд «История как проблема логики». В 1918–1921 гг. он являлся профессором Московского университета, членом комитета по реформе высшей и средней школы, худсовета МХАТ, а с 1.09.1921 – сотрудником РАХН. В 1935 г. Г. Г. Шпет был арестован. 16 ноября 1937 – расстрелян в г. Томске, где отбывал ссылку [Серебренников 1995], посмертно реабилитирован в 1956 г. (подробнее об этом во второй части статьи).
Сегодня Г. Г. Шпет известен как феноменальный ученый, свободно ориентировавшийся в сферах философии, психологии, истории культуры, искусствознания, литературной критики и т.п. Он владел двумя десятками языков, был великолепным лектором и публицистом, переводил философские труды и художественную классику [Марцинковская 2000].
Искусствовед Н. П. Подземская особо отмечает тот факт, что частная жизнь и ученая повседневность, коммуникативные связи духовно близких людей - как единомышленников, так и интеллектуальных оппонентов – выступили культурно-психологическими предпосылками феномена ГАХН. Эти связанные с антропологией науки предпосылки не могли быть полностью отражены в официальных документах и иных свидетельствах эпохи. Их возможно осмыслить лишь в качественном анализе, реконструировать на основе воспоминаний, дневников, собраний и материалов личных архивов.
Таким образом, шлейф дореволюционной культуры и исканий серебряного века, неформальное общение ученых, составивших своего рода клуб выпускников историко-филологический факультета Московского университета, явились наименее осязаемыми факторами феномена ГАХН.
Структура ГАХН и исследовательская программа. В своей структуре Академия имела три отделения, а также секции и секционные комиссии; библиологический отдел; редакционно-издательский отдел; лаборатории. Организационно-методологическую деятельность осуществляло правление Академии, оно же согласовывало общие вопросы. Социологическое отделение строило свою деятельность в русле разработки методологии и идеологии марксизма. Философское отделение занималось вопросами синтетического искусствознания и тем, что сегодня можно назвать культурно-исторической эпистемологией и методологией социогуманитарных наук [Гусельцева 2011]. Физико-психологическое отделение осуществляло эмпирические и экспериментальные исследования.
Синтетическую методологию в области искусствознания разрабатывало преимущественно философское отделение, которое возглавляли Г. Г. Шпет (1922-1925) и А. Г. Габричевский (1925–1927), тогда как социологическое отделение было ориентировано идеологически, а физико-психологическое отделение – естественнонаучно.
Свою исследовательскую программу Г. Г. Шпет изложил в отчетном докладе «К вопросу о постановке научной работы в области искусствоведения» [Шпет 1926]. В докладе были сформулированы следующие цели Академии: 1) объединение «за одним столом литературоведов, музыковедов, театроведов и …пластоведов»; 2) выработка методологии синтетического (синехологического) искусствознания. Г. Г. Шпет доказывал значимость философского и терминологического анализа, которыми следовало предварять любое исследование. Философский подход предполагает анализ понятий, с которыми имеет дело искусствознание. Экспериментам и построению объяснительных моделей предшествует вопрос о сути явления «что это?» и выработка «дифференцирующей терминологии»: «Что такое искусство вообще, <…> каждое искусство в отдельности, что такое стиль, …его признаки, и кончая последними конкретно-диалектическими и историческими определениями, как натурализм, классицизм, экспрессионизм, и даже техническою номенклатурою, как свет, тень, контур, пятно, ритм и т.д.» [Шпет 1926: 12].
Физико-психологическое отделение возглавляли искусствовед А. В. Бакушинский, физик Н. Е. Успенский (1922–1923), психолог и педагог И. П. Четвериков (1923–1924), психиатр и исследователь творчества душевнобольных П. И. Карпов. В отделении работало несколько комиссий. С марта 1922 г. действовала комиссия по изучению примитивного творчества. Ее председателем был А. В. Бакушинский, а ученым секретарем Н. П. Сакулина. С ноября 1923 г. работала комиссия по изучению творчества душевнобольных. Ее возглавлял П. И. Карпов (1849–1922), рассматривавший рисование в качестве метода терапии. П. И. Карпов также являлся председателем комиссии по изучению внушающего действия художественного слова. Председателем комиссии по изучению творчества в условиях гипноза и внушения был И. П. Каптерев (1889–1955) – педагог, биолог, географ. В свою очередь, философ, логик, психолог Г. И. Челпанов (1862– 1936) возглавлял комиссию по изучению восприятия пространства и с 1925 г. комиссию по изучению художественного творчества. Как следует из отчета о научной работе, в 1924 г. он «сконструировал универсальный психологический аппарат для преподавания психологии и для психотехнических целей» [РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 10. Ед. хр. 675. Л. 29].
В рамках физико-психологического отделения изучались проблемы психологии восприятия и творчества, художественной формы и переживания. Работа отделения строилась по двум направлениям: научно-исследовательское и художественно-просветительское. Художественно-просветительская работа включала в себя лекции, диспуты, организацию театральных постановок и концертов, проведение выставок и мероприятий, посвященных памятным датам. В 1925–1926 гг. сотрудники физико-психологического отделения занимались исследованием психологии художественного творчества, сравнительным анализом протекания процесса творчества у нормальных и душевнобольных людей; изучением переживания и художественного восприятия; проблемами художественной формы произведений искусства; проблемами и методами художественного развития и воспитания.
Отметим, что деятельность ГАХН по своему функционалу была крайне разнообразна: научно-исследовательская; методологическая (интеграция знания); просветительская; издательская; коммуникативная (сообщество ученых); организационная (выставки, образовательные практики); экспертно-консультативная (образовательные программы). В Академии присутствовали дисциплинирующие ученых четкие планы и отчеты, но также царил творческий хаос, приносящий неожиданные и продуктивные плоды. В плане издательской деятельности выходили периодические издания «Бюллетени
ГАХН», «Искусство», альманахи и сборники (например, «Современная музыка»), каталоги выставок, готовились к публикации научные статьи, хрестоматии, художественные альбомы, переводы, энциклопедические и терминологические словари, монографии сотрудников. Наиболее продуктивным в этом плане оказались 1926-1928 годы (благодаря интересу зарубежных ученых в целом и исследовательскому проекту «Язык вещей. Философия и гуманитарные науки в русско-немецких идейных связях 1920-х гг.» Института философии Рурского университета в Бохуме, в частности, сегодня в свобод-ном доступе представлены разного рода издания ГАХН [ГАХН; Kunst-Forschung]).
Такая особенность в организации ГАХН, как взаимодействие горизонтальных и вертикальных деятельностей, была осмыслена в 1923 г. в статье литературоведа А. И. Кондратьева (1885–1953). На современном языке это можно охарактеризовать как сетевой принцип структуры и методологии ГАХН: «По общему плану, положенному в основу организации Академии, деятельность последней должна развиваться в двух направлениях: горизонтальном и вертикальном. Первое направление имеет целью изучение искусства со стороны его элементов, исследование его социальной природы и, наконец, подход к искусству со стороны его теоретического обобщения. Для достижения этих целей при академии организованы три отделения: физико-психологическое, социологическое и философское. <...> Три горизонтальные линии – линия изучения элементов, линия социологического исследования и линия теоретического обобщения – пересекаются рядом вертикальных линий по видам искусства: литература, театр, музыка, пространственные искусства и т.д.» [Кондратьев 1923: 414, 420].
Диалектика секций и отделений ГАХН выразилась в том, что секции со множеством подсекций, комиссий, кабинетов, лабораторий производили необходимую дифференциацию научной деятельности, а отделения задавали горизонты супервиде-ния и интеграции работы. Еще раз отметим творческую атмосферу, отсутствие строгих дисциплинарных границ и непринужденность коммуникации людей с разными профессиональными представлениями и взглядами: «В порядке дифференциации научных дисциплин академия расчленяется на секции с их подсекциями, комиссиями, кабинетами, лабораториями и т.д. Но в порядке интеграции академия объединяет эти ячейки в трех отделениях, каждому из коих подведомственны соответствующие интересы всех секций со всеми их подразделениями» [цит. по: Акимова, Новиков].
Свободомыслие в ГАХН: контексты и личности. Как справедливо обратил внимание М. Колеров, российская историография представляет сегодня собой Атлантиду [Колеров, Мартов 2017]. О том, насколько интерпретации обусловлены контекстами свидетельствует следующий эпизод. В одном из заседаний подсекции сценического творчества ГАХН выступал Л. С. Выготский с докладом «К изучению психологии творчества актера» [РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 4. Ед. хр. 39. Л. 22]. Его выступление не произвело глубокого впечатления на непосредственных участников события (это были П. М. Якобсон, А. И. Кондратьев, Л. Я. Гуревич и др.); в прениях к докладу прозвучали серьезные критические замечания [РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 4. Ед. хр. 39. Л. 23–23об]. Однако в дальнейшем при смене коммуникативного контекста работы Л. С. Выготского в кругу соратников и последователей получали самые восторженные отзывы. В этой связи показательна полемика А. М. Эткинда и М. Г. Ярошевского на страницах журнала «Вопросы психологии» в 1993 г. Выйдя за пределы истории психологии и обратившись к анализу общего культурного контекста эпохи, А. М. Эткинд пришел к выводу, что Л. С. Выготский – не мессия и не одинокий герой, а человек своего времени,удачно применивший его основные идейные течения в новой исследовательской области. Иными словами, то, что в дальнейшем вызывало энтузиазм у молодых исследователей, представителей формирующейся советской культуры, не встречало отклика у дореволюционных профессоров, получивших образование на историко-филологических факультетах столичных университетов. Восприятие Л. С. Выготского как культурного героя родилось в контексте утраты достижений серебряного века, где выкошенное поле 1930-х делало особенно ярким и заметным человека, воплотившего творческий дух 1910-х гг.: «Это был человек культуры, интеллектуал, действовавший в основном русле современных ему эстетических, философских, политических и просто жизненных идей. Не родоначальник новых принципов, взявший их из недр своей одаренности, а один из представителей самых модных течений, владевших умами своего поколения» [Эткинд 1993: 54]. Заметим, что если в 1993 г. эти суждения А. М. Эткинда звучали эпатажно, то знакомство с протоколами заседаний вышеназванной подсекции ГАХН делает их вполне релевантной и точной диагностикой. (Феномен «Vygotsky bubble» в контексте ревизионистского поворота обсуждался А. Ясницким [Yasnitsky 2018; Yasnitsky, van der Veer 2016].).
О свободе мышления, царившей в ГАХН, свидетельствует другой эпизод - прения о книге литературоведа, специалиста в области русского языка и словесности П. Н. Сакулина (1868-1930) (между тем шел 1925 год, и в иных учреждениях уже практиковались идеологические «чистки»): «Меня спрашивают, марксист я или нет. Я думаю, что я уже вышел из того возраста, когда надо быть учеником. Марксизм не есть нечто единое и непогрешимое, в нем самом есть дифференциации. Марксизм только одно из социологических течений. Каждый вправе создавать свою собственную систему. Создавая ее, я могу брать от него, что нахожу правильным. Это не эклектизм, потому что я не смешиваю различные теории, а ко всем ним подхожу со стороны, со своими понятиями. Марксисты не создали еще стройной и цельной системы искусствоведения. <…> В науке не должно быть святынь, которых нельзя касаться» [РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 6. Ед. хр. 30. Л. 3об].
Заседания ГАХН собирали представителей разных наук, что позволяло создать панорамное и проблемно-поисковое видение, открыть неожиданные ракурсы в, казалось бы, известных предметах, а ее творческий потенциал еще долгое время неявно питал культуру и систему образования советской эпохи.
Латентные тенденции. Сегодня исследователи характеризуют ГАХН как школу гуманитарных исследований европейского уровня [Плотников, Подземская 2017a; Чубаров 2010]. Она возникла в послереволюционные 1920-е гг. не столько благодаря энтузиазму новой (советской) государственности, сколько вопреки ее идеологии. Появление уникальной структуры Академии обусловили факторы случайности, непреднамеренного сопротивления отдельных личностей историческому процессу, а также инерционность культуральных течений. Стремление ГАХН к междисциплинарности и синтезу искусств являлось привнесенным в новую эпоху духом серебряного века.
На серебряный век можно взглянуть как на зарождающийся в нашей стране, но в полной мере так и не свершившийся Ренессанс [Мильдон 2013], выступающий частью общеевропейских модернизационных движений, которые воплощаются не только в индустриализации, секуляризации и промышленном росте, но и в необходимой трансформации ценностей, совершеннолетии человека в культуре [Кант 1966]. Для этого периода характерен переход от модели государства, подавляющего личность и использующего ее как ресурс (человек-средство) к модели государства, служащего развитию личности (человек-цель). Такого рода смена модели взаимоотношений человека и государства была осмыслена в трудах В. Гумбольдта [Гумбольдт 2003]. В европейской истории эти процессы сопровождались появлением правовой рациональности, рождением субъектности и гражданской солидарности, поиском консенсуса между различными слоями общества посредством инструментов демократии, а также сопутствующими выбросами интеллектуальной и творческой энергии [Гусельцева 2019]. В. И. Мильдон отмечает, что этот необходимый ренессансный (модернизационный) перелом не свершился в России: «До сих пор господствуют представления о первоочередности для каждого человека державы, народа, родины, национальной или религиозной принадлежности, тогда как они все – только средства, способные (либо нет) обеспечить или хотя бы гарантировать индивидуальное бытие. И поныне культивируются взгляды, давно доказавшие неприемлемость в жизни, она может лишь уродоваться под их воздействием. Индивидуальное все еще рассматривают синонимом эгоизма, которому по необъяснимой сегодня исторической слепоте противопоставляют коллективизм, общинность, соборность» [Мильдон 2013: 17–18]. Согласно В. И. Мильдону, «для России Новое время так и осталось в литературе, в мысли; на Западе оно проникло в каждодневное существование – в психологию частных лиц, в общественные отношения, законы, государственную и общественную практику» [там же: 18].
ГАХН явилась непреднамеренным продуктом серебряного века, при том, что по историческим меркам этот «век» продлился мгновение, и В. И. Мильдон вполне обоснованно обсуждает его в категориях ренессанса как механизма трансформации культуры [Мильдон 2013]. Именно этот незавершенный ренессанс заложил социокультурный фундамент, позволивший стране в ХХ веке совершить индустриализацию. На этом фундаменте держалась, сама того не ведая, и советская власть, пока не исчерпала заделы инновационного творчества. Такие вещи далеко не очевидны, ибо те успехи индустриализации, которые невдумчивые обыватели нередко приписывают Сталину, явились следствием как экономического, так и социокультурного развития России в 1910-е гг. Обратим внимание на характеристику, которую писатель Д. Л. Быков дал сталинизму в качестве культурно-психологического феномена: «Сталин взял Россию самой перспективной страной мира, страной с невероятным культурным взрывом, с огромным и искренним желанием начать с нуля и построить совершенно новое общество. …Он взял ее с очень неглупым правительством, в котором, в частности, был Луначарский… Оставил он ее страной с вытоптанной культурой, с глубоко внедрившимся страхом, оставил ее мировой духовной провинцией, и только сказочный культурный взрыв оттепели вернул Россию в мировой контекст. Он оставил ее страной, которая была абсолютно раздавлена …его страшным параноидальным мышлением, остатки которого до сих пор никуда не делись. Я считаю Сталина самым большим злом в истории России» [Быков 2015].
Более того, успехи советской науки и культуры в ХХ в. продолжались до тех пор, пока не прервались и не истощились заложенные на рубеже Х1Х-ХХ вв. академические традиции интеллектуальной элиты. В контексте истории психологии эти тенденции независимо друг от друга проследили авторы, придерживающиеся разных методологических подходов и исследовательских стратегий. Так, С. А. Богданчиков, раскрывая феномен одного из организаторов российской психологической науки Г. И. Челпанова, обнаружил, что советская психология неявно питалась интеллектуальными традициями челпановской школы, которая, в свою очередь, вобрала в себя достижения мировой психологии своего времени [Богданчиков 2013]. Со своей стороны, А. Ясницкий показал, что развитие советской психологии долгое время держалось на старых профессорах, получивших еще дореволюционное фундаментальное образование [Ясницкий 2015]; когда же эти культурные и интеллектуальные традиции истощились, стала заметной тенденция снижения качества образования, приведшая, в том числе, и к обрушению СССР, эдакого
«колосса на глиняных ногах».
Не имея в рамках данной статьи возможности детально развить эту тему, отметим лишь, что качество советского образования было довольно неоднородным: заметные успехи в области естественных наук при заидеологизированности социогуманитарного знания, особенно требующего для развития свободы научного поиска, открытых коммуникаций, дискуссий и вольнодумства; несомненные достижения отдельных ученых и падение общего уровня интеллектуальной грамотности, проявляющееся, например, в изоляционизме, вызванном дурным знанием иностранных языков. Так, на смену дореволюционных профессоров, свободно читающих литературу на основных европейских языках, приходили советские ученые с отсутствием привычки систематически изучать научную периодику даже на английском.
Обозначенные выше латентные тенденции, не ставя перед собой такой задачи, вскрыл просветительский проект Л. Г. Парфенова – документальный фильм «Цвет нации», повествующий об отечественном родоначальнике искусства цветной фотографии С. М. Прокудине-Горском. Побочным эффектом проекта стал сравнительный анализ дореволюционной и советской культур. С. М. Прокудин-Горский фотографировал «памятники, которым тогда было лет двести-триста, и стояли они как новые. Но уже лет через двадцать-тридцать начались фатальные перемены, а через сто – хорошо если находишь обломки. Больше всего за последние сто лет потеряла Центральная Россия, снятая Прокудиным-Горским особенно подробно. Зарастают старые русские города. Одних храмов нет, другие обезглавлены, доживает свой век историческая застройка, и все это тонет, тонет в зарослях. Прокудин-Горский ведь снимал самые выигрышные виды. А мы теперь, глядя на те же места, будто не знаем, как и смотреть. Зарос уездный город Старица в Тверской губернии, Троицкий собор в Осташкове тоже утонул в дебрях. В зарослях Горицкий женский монастырь. Перекрыта панорама при въезде в Можайск. Похоже, по старым правилам благоустройства охраняют только главные достопримечательности двух столиц» [Леонид Парфенов 2015].
Тему латентных изменений поддерживают и размышления И. Д. Прохоровой о серебряном веке, возросшем исключительно на частной благотворительности. «Государство вообще не принимало в этом никакого участия. <…> Советская власть существовала до тех пор, пока проедала это наследие. Как только она все проела, она рухнула, потому что та система выстроенных больниц, библиотек, вся инфраструктура здравоохранения, которая разрабатывалась до революции и отчасти легла в основание советской медицины, была изобретена отнюдь не большевиками. А теми <…> новыми лицами, людьми, инженерами, которые преобразили лицо России. Большинство этих людей осталось и еще долго довоспитывало следующие поколения вопреки всему» [Прохорова 2012].
Таким образом, национальный подъем культурного строительства 1920–1930-х гг. являлся инерционным шлейфом дореволюционного развития страны. В наши же дни обывателю редко приходит в голову, что, например, «тучные 2000-е» своим экономическим благополучием обязаны не столько половинчатым реформам, проведенным в т.н. «лихие 1990-е», сколько открытой и более гибкой рыночной экономике (и, разумеется, росту цен на нефть – случайному фактору, выпавшему на начало нового тысячелетия).
Заключение. Если сформулировать принцип методологии латентных изменений в нескольких словах, то это: «всё не то, чем кажется!» [Гусельцева 2019]. Историческая и психологическая детерминация зачастую имеют ускользающие в туманности причины и отсроченные во времени последствия. Как поступки личности, так и коллективные действия производят непредсказуемые продукты и неучтенные эффекты («хотели, как лучше, а получилось, как всегда» – известное высказывание В.С. Черномырдина [Добрынина 2013]). Самоценность научного поиска (знание ради знания) нередко создает более весомые прикладные плоды, нежели сознательно поставленные науке цели приносить практическую пользу. Казавшееся не столь важным и неуловимое - в дальнейшем становится едва ли не самым значимым. Так, например, И. Мартов справедливо отмечает, что замысел энциклопедии ГАХН являлся эпистемологической утопией. Это был сетевой проект в современном смысле слова - «создание “Энциклопедии художественных терминов” такого же масштаба, как французская энциклопедия Даламбера и Дидро, охватывающая все области и аспекты изучения искусства - философию, психологию, социологию и искусствоведческие дисциплины» [Мартов 2019]. Сегодня же ГАХН интересна не столько своими проектами (не все оказались осуществлены), сколько неординарной исследовательской практикой - пространством разнообразных и незавершенных дискуссий. Это была Академия в духе Платона, Аристотеля, Садов Эпикура, продолжавшая традиции живого знания в большом времени культуры.
С одной стороны, ГАХН явилась продуктом непреднамеренных действий, с другой – уникальным событием культуры. Ее невозможно воссоздать, однако, реконструируя ее незавершенную историю следует многому научиться. Временная дистанция гораздо четче высвечивает те идеи, подходы и научные направления, которые опередили свое время. Так, синтез искусств в наши дни представляется трансдисциплинарным проектом, поскольку трансдисциплинарность сегодня актуальная и востребованная тема. Однако во времена ГАХН такого термина еще не было, а феномен был.
О других уроках истории ГАХН порассуждаем во второй части статьи.
(продолжение следует)
Литература и источники
Список литературы Государственная академия художественных наук: традиции и современность. Часть первая: "Незавершенная история"
- Аксакова-Сиверс Т. А. Семейная хроника. М.: Индрик, 2006. 742 с.
- Бернштейн Н А. Физиология движений и активность. М.: Наука, 1990. 494 с.
- Богданчиков С. А. Открывая Г. И. Челпанова: научная монография. М.: Директ-Медиа, 2013. 428 с.
- Гумбольдт В. О пределах государственной деятельности. М.: Социум, Три квадрата, 2003. 200 с.
- Гусельцева М. С. Изучение художественного воспитания в Государственной академии художественных наук (по материалам протоколов заседаний 1925–1929 гг.). [Электронный ресурс] // Психологические исследования. 2011. № 4(18). URL: http://psystudy.ru/index.php/num/2011n4-18/515-guseltseva18.html (дата обращения: 12.02.2021).
- Гусельцева М. С. Психология повседневности в свете методологии латентных изменений. М.: Акрополь, 2019. 375 с.
- Кант И. Ответ на вопрос: Что такое Просвещение? // Кант И. Соч.: В 6 т. М.: Мысль, 1966. Т. 6. С. 25–36.
- Кондратьев А. И. Российская академия художественных наук // Искусство. 1923. № 1. С. 407–449.
- Марков П. А. Книга воспоминаний. М.: Искусство, 1983. 607 с.
- Мартов И. Ктулху ГАХН. Чем занимались виднейшие интеллектуалы в двадцатые годы и почему об этом все забыли // Горький Медиа. 1 ноября 2017. URL: https://gorky.media/context/ktulkhu-gahn/ (дата обращения: 18.03.2021).
- Марцинковская Т. Д. (Ред.). Густав Густавович Шпет. Архивные материалы. Воспоминания. Статьи. М.: Смысл, 2000. 351 с.
- Мильдон В. И. Серебряный век или русский Ренессанс? // Вестник культурологии. 2013. № 1(64). С. 5–31
- Плотников Н. С., Подземская Н. П. (Ред.). Искусство как язык – языки искусства. Государственная академия художественных наук и эстетическая теория 1920-х годов. Том I. Исследования. М.: Новое литературное обозрение, 2017a. 456 с.
- Плотников Н. С., Подземская Н. П. (Ред.) Искусство как язык – языки искусства. Государственная академия художественных наук и эстетическая теория 1920-х годов. Том II. Публикации. М.: Новое литературноеобозрение, 2017b. 928 с.
- Подземская Н. П. Наука об искусстве в ГАХН и теоретический проект В. В. Кандинского // Искусство как язык – языки искусства. Государственная академия художественных наук и эстетическая теория 1920-х годов. Том I. Исследования. / Под ред. Н. С. Плотникова и Н. П. Подземской при участии Ю. Н. Якименко. М.: Новое литературное обозрение, 2017. С. 44–78.
- Серебренников Н. В. Шпет в Сибири: Ссылка и гибель. Томск: Водолей, 1995. 336 с.
- Устав Г.А.Х.Н. // Бюллетени Г.А.Х.Н. 1927. № 6–7. С. 78–82.
- Челпанов Г. И. О задачах Московского психологического института // Вопросы психологии. 1992. № 5-6. С. 41–44.
- Чубаров И. Статус научного знания в ГАХН: к вопросу о синтезе в искусствознании 20-х гг. // Логос. 2010. №2 (75). С. 79–104.
- Шпет Г. Г. К вопросу о постановке научной работы в области искусствоведения // Бюллетени ГАХН. 1926. № 4–5. С. 3–20.
- Эткинд А. М. Еще о Л. С. Выготском: Забытые тексты и ненайденные контексты // Вопросы психологии. 1993. № 4. С. 37–55.
- Ясницкий А., Завершнева Е. Об архетипе советской психологии как научной дисциплины и социальной практики. [Электронный ресурс] // Новое литературное обозрение. 2009. № 100. URL: https://magazines. gorky.media/nlo/2009/6/ob-arhetipe-sovetskoj-psihologii-kak-nauchnoj-disczipliny-i-soczialnoj-praktiki.html (дата обращения: 12.02.2021).
- Yasnitsky A. Questioning Vygotsky’s Legacy: Scientific Psychology or Heroic Cult. N.Y.: Routledge, 2018. 188 p.
- Yasnitsky A. & van der Veer R. (Eds.) Revisionist Revolution in Vygotsky Studies. L. & N.Y.: Routledge, 2016. 334 p.
- Акимова М., Новиков П. Государственная академия художественных наук (ГАХН). [Электронный ресурс] // Топография террора. URL: https://topos.memo.ru/en/node/62 (дата обращения: 12.02.2021).
- ГАХН. URL: https://dbs-lin.ruhr-uni-bochum.de/gachn/index.php?pg=17&r0=1&r1=2&l=ru (дата обращения: 15.02.2021).
- Быков Д. Л. Один // Эхо Москвы. 19 июня 2015. URL: http://echo.msk.ru/programs/odin/1568788-echo/ (дата обращения: 17.03.2021).
- Добрынина Е. А ведь получилось. Исполнилось 20 лет самому известному афоризму Виктора Черномырдина. [Электронный ресурс] // Российская газета. № 176(6152). 12 августа 2013. URL: https://rg.ru/2013/08/11/chernomyrdin.html (дата обращения: 18.03.2021).
- Кандинский Василий Васильевич. Жизнь и творчество. [Электронный ресурс]. // URL: http://www.kandinsky-art.ru/etnograficheskaja-ekspedicija.html (дата обращения: 12.02.2021).
- Колеров М., Мартов И. «Нельзя зарабатывать на науке и творчестве». Модест Колеров о своих издательских принципах, науке и идеологии. [Электронный ресурс] // Горький Медиа. 2017. URL: https://gorky.media/intervyu/nelzya-zarabatyvat-na-nauke-i-tvorchestve/ (дата обращения: 15.02.2021).
- Леонид Парфенов: «Говорить про советское – говорить про себя». [Электронный ресурс] // The New Times. 2015. 16 февраля. № 5 (356). URL: https://newtimes.ru/articles/detail/94723 (дата обращения: 12.02.2021).
- Прохорова И. Д. Кто при слове «культура» хватается за пистолет? [Электронный ресурс] // Культурная политика в современной России: Стенограмма встречи из цикла «Важнее, чем политика». 2012. URL: https://www.hse.ru/data/2012/04/13/1251540268/Proxorova_kulturnaya_politika_v_Rossii_20032012.pdf (дата обращения: 12.02.2021).
- РГАЛИ. Фонд 941. Оп. 10. Ед. хр. 675. Л. 22–31об. Отчет о научной работе Г. И. Челпанова (1921–1929)
- РГАЛИ. Фонд 941. Оп. 6. Ед. хр. 30. Л. 1–4. Протокол № 1 от 2.11.25. Прения по докладу П. С. Когана «Личность автора в литературном творчестве» и докладу Н. К. Пиксанова «Социологическая проблематика литературоведения» (о книге П. Н. Сакулина «Социологический метод в литературоведении»).
- РГАЛИ. Фонд 941. Оп. 4. Ед. хр. 39. Л. 22–23об. Протоколы заседания п/с Психологии сценического творчества. 23 января 1928.
- Схематическая программа Института художественной культуры по плану В. В. Кандинского. [Электронный ресурс] // URL: http://www.kandinsky-art.ru/library/isbrannie-trudy-po-teorii-iskusstva68.html (дата обращения: 25.05.2020).
- «Цвет нации». Фильм Леонида Парфенова с предисловием автора. [Электронный ресурс] // Parfenon. 11 Jun 2018. URL: https://www.youtube.com/watch?v=QaeRj-ApktY (дата обращения: 12.02.2021).
- Kunst-Forschung. Strategien der Wissensgewinnung und -dokumentation an der Staatlichen Akademie für künstlerische Forschung in Moskau (1921–1930). [Электронный ресурс] // URL: https://gachn.de/ru/view/411 (дата обращения: 25.05.2020).