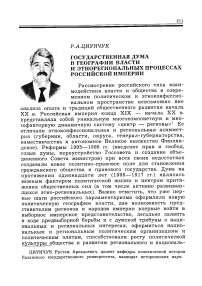Государственная дума в географии власти и этнорегиональных процессах Российской империи
Автор: Циунчук Рустем Аркадьевич
Журнал: Регионология @regionsar
Рубрика: Региональная история и историография
Статья в выпуске: 1 (50), 2005 года.
Бесплатный доступ
Историко-политологический анализ комплекса этноконфессиональных и региональных процессов и проблем позднейшей Российской Империи (1905-1917 гг.) В системе «центр - регион» через призму зарождения, становления и кризиса первых в России. В статье представлена история Государственного парламента России - Государственной Думы. В центре внимания взаимоотношения государственной власти и общества, новая география власти после создания Государственной Думы Российской Империи.
Короткий адрес: https://sciup.org/147222902
IDR: 147222902
Текст научной статьи Государственная дума в географии власти и этнорегиональных процессах Российской империи
Рассмотрение российского типа взаимодействия власти и общества в современном политическом и этноконфессио-нальном пространстве невозможно вне и традиций общественного развития начала
XX в. Российская империя конца XIX — начала XX в. представляла собой уникальную многокомпонетную и многофакторную динамичную систему «центр — регионы»1 Ее отличали этноконфессиональная и региональная асимметрия (губернии, области, округа, генерал-губернаторства, наместничества и автономное Великое княжество Финляндское). Реформы 1905—1906 гг. (введение прав и свобод, созыв думы, переустройство Госсовета и создание объединенного Совета министров) при всех своих недостатках создавали новое политико-правовое поле для становления гражданского общества и правового государства. Дума на протяжении одиннадцати лет (1906—1917 гг.) являлась важным фактором политической жизни и центром притяжения общественных сил (в том числе активно развивающихся этно-региональных). Важно отметить, что уже первые шаги российского парламентаризма оформляли новую политическую географию власти, дав возможность представителям регионов и народов империи впервые войти в выборное имперское представительство, легально заявить в ходе предвыборной борьбы и с думской трибуны о национальных и региональных интересах, оформиться национальным и региональным политическим организациям и политическим элитам, способствовали росту политической культуры о бщества и развитию регионального и националь-
ЦИУНЧУК Рустем Аркадьевич, доцент кафедры политической истории Казанского государственного университета, кандидат исторических наук.
ного самосознания, благоприятствовали распространению идей национального самоопределения и регионального самоуправления.
Таким образом, с появлением Государственной думы процессы политической жизни в Российской империи приобрели четко оформленное этнорегиональное измерение. Эти новые явления и процессы складывались и развивались под воздействием различных политических факторов.
Во-первых, имперская власть, конструируя Государственную думу и Государственный совет, моделируя избирательное законодательство, стремилась создать привилегии для избирателей губерний и городов Центральной России и ограничить представительство национальных регионов. Конструкция Думы и Госсовета (особенно после 3 июня 1907 г.) способствовала сохранению монопольной власти центра и преимущественному представительству привилегированных элит империи, а не широкого круга имевшихся социальных, этнических и региональных групп и общностей. Об этом, кстати, заботился один из главных авторов законопроектов о Думе и Госсовете С.Е.Крыжанов-ский, когда 9 октября 1905 г. писал руководителю Особого совещания по выработке законов графу Д.М.Сольскому: «Немаловажное значение, предполагаемое преобразование, имело бы и для упрочения национального направления в деятельности обеих высших законосовещательных учреждений. В России господствующая национальность, на которой стоит государство, составляет всего лишь около 66 % общего количества населения, а чуждые народности достигают 34 %, т.е. такого процента, какого не знает ни одна Западно-Европейская держава, кроме Австрии, не имеющей вовсе господствующей нации... Интересы величайшей государственной важности настоятельно требуют поэтому, чтобы голос русского народа, на котором одном держатся и сила государственной власти и самый престол Российских государей, безусловно, господствовал в законосовещательных учреждениях»2.
Особым совещанием решено было устранить от участия в выборах так называемых кочевых инородцев, а в члены Думы могли избирать только лиц, знающих русский язык3 Ключевым вопросом политической географии выборов стал вопрос об избирательных округах, их территории и плотности заселения, этноконфессиональном и социальном составе населения. Переосмысливается и переоформляется политическое пространство империи. В окраинных национальных регионах были созданы отдельные территориально-этнические («инородческое» представительство в Казахстане, Средней Азии, Астраханской и Ставропольской губерниях, Забайкалье), территориально-конфессиональные (православное население Люблинской и Седлецкой губерний Царства Польского) и территориально-сословные (казачьи) избирательные округа. На запаздывание власти в конструировании избирательной системы и стремление манипулировать с представительством окраин указывает и хронология принятия «вдогонку» в течение девяти месяцев 1905—1906 гг. 9 специальных региональных Правил о выборах в Польше, Сибири, на Дальнем Востоке, Кавказе, в Казахстане и Средней Азии, которые были обнародованы 22 апреля 1906 г. — за 5 дней до открытия I Думы. Для этих регионов решили принять более высокие нормы представительства. При намечаемой норме представительства от центральных губерний в 250 тыс. на одного депутата реальные цифры отличались более чем в 6 раз (Олонецкая губерния — 121,3 тыс. чел. на одного депутата, а Ферганская область — 786,1 тыс. чел.). Региональная асимметрия избирательной системы была еще более заметна по городским округам. Первоначально право отдельных выборов депутатов получили 19 городов империи с числом населения более 100 тыс., однако среди них как минимум 13 (Варшава, Одесса, Лодзь, Рига, Киев, Харьков, Тифлис, Ташкент, Вильна, Казань, Екатеринослав, Баку, Кишинев) отличались многонациональным составом населения. Тогда решили увеличить количество городов до 26 и «включить в этот список некоторые чисто русские города, близко подходящие по численности к помещенным в этом списке»4 Однако выбор этих городов был весьма произвольным. Так, из тех городов, где численность населения была выше, чем в получившем отдельное представительство Орле (69,7 тыс.), не получили права избирать депутата многонациональные Минск, Николаев, Коканд, Оренбург, Ковно. Самая низкая в империи норма представительства оказа- лась у Иркутска (51 тыс.), а самая высокая — у Одессы (403,8 тыс. жителей на 1 депутата). Завышенную почти в 2 раза норму представительства (более 200 тыс. чел. на 1 депутата) получили Рига, Киев, Москва, Петербург, в 3 раза — Варшава и Лодзь.
Закон о выборах 3 июня 1907 г. сократил число членов Думы (III и IV созывов) на 82 депутата (с 524 до 442). Он изменил не только социальный состав, но и этнорегио-нальную конструкцию думы. Если представительство Европейской России сократилось на 11 депутатов (в основном за счет Вятской, Пермской, Уфимской и Оренбургской губерний), то представительство Польши — на 23 мандата, Кавказа — 19, Сибири — 7, а из 23 депутатов от Казахстана и Средней Азии осталось лишь одно депутатское место для уральских казаков. Отдельное городское представительство сохранили лишь за Петербургом, Москвой, Киевом, Ригой, Одессой, Варшавой и Лодзью. На Кавказе укрупнили избирательные округа, сократив их до 6 (т.е. вдвое). Для русского населения Закавказья, Виленской, Ковенской губерний и Варшавы создали отдельные этнотерриториальные округа. Асимметрия избирательной системы в Российской империи усилилась.
Во-вторых, начало XX в., особенно революция 1905— 1907 гг., связано с ростом этнического самосознания, подъемом политической активности и развитием национальных движений народов Российской империи, которые формулировали широкие политические требования (от обеспечения национального и религиозного равенства до организации национальных автономий). Возникает потребность легальной презентации этноконфессиональных и региональных интересов. Действительно, выборы в Государственную думу стали главным фактором ускорения процессов развития партийно-политической жизни России, в том числе в национальных регионах империи. Этнические, конфессиональные и региональные интересы нашли отражение в политических программах и платформах, предвыборной печати, стали мобилизационными лозунгами избирательных кампаний5- В ходе первых выборов активно заявили о себе Польская национально-демократическая партия, Украинская демократическо-радикальная партия, Союз му- сульман, латышские, литовские, эстонские, армянские, грузинские, еврейские политические партии и организации, обеспечившие себе думское представительство.
В-третьих, неожиданный для власти многонациональный (и поликонфессиональный) состав первой Государственной думы впервые сделал возможным презентацию этнокон-фессиональных и региональных интересов и требований на общеимперском политическом уровне. На первых выборах в Думу прошло около 200 представителей нерусских народов. Депутат I Думы и публицист В.П.Обнинский писал: «Съехавшись, в числе пятисот почти человек, в Петербург, разместившись на скамьях Таврического дворца, по инстинктивному побуждению, группами, сообразно сродству языка, племени или веры, депутаты должны были в первый же день заметить, что вот там сидит „польское коло“, рядом с ним — литовские депутаты, украинцы теснятся к южанам, тюбетейки татар виднеются рядом с характерными профилями представителей восточной окраины, чернокудрые кавказцы плотно засели на крайней левой, и, наконец, обширный центр России, с ее двумя столицами, занял и здесь всю середину залы... Это был вид имперского парламента автономно-конституционного государства; здесь, кроме общегосударственного дела и даже доминируя над ним, хотя пока и в скрытой форме, владели умами интересы местные, областные, национальные»6. Для общества стали наглядно ясными масштабность, многообразие и острота национального вопроса в империи. Этнорегиональные фракции и группы презентовали разнообразные национальные и областные интересы и проблемы, требовавшие неотложного решения. Уже в I Думе члены самой крупной национальной группы — Польского коло — выступили за восстановление автономии польских губерний7 Члены мусульманской группы А.А.Ахтямов и Ш.Ш.Сыртланов потребовали отмены религиозных и гражданских притеснений для исповедующих ислам почти 20 млн жителей империи8 За гражданское равноправие выступили члены группы автономистов П.П.Массониус (Минская губерния), Ф.С.Трасун (Витебская губерния), трудовики Т.В.Локоть (Черниговская губерния), Ф.А.Сеффер (Бессарабская губерния), И.К.Заболотный (По-
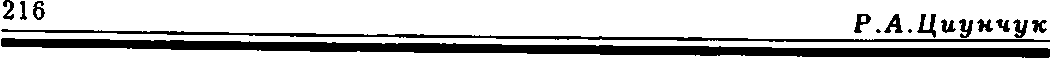
дольская губерния). Об остроте аграрного вопроса в национальных регионах говорили члены Думы Л.И.Лопас (Ко-венская губерния), Л.Е.Штефанюк (Подольская губерния), С.П.Кондрашук (Гродненская губерния), Я.К.Крейцберг (Курляндская губерния), К.Я.Озолин (Лифляндская губерния), А.К.Беремжанов (Тургайская область), Ш.Ш.Сырланов (Уфимская губерния). Депутат Люблинской губернии Я.С.Стецкий, как и многие другие, связал решение аграрного вопроса с расширением местной автономии, доказывая, что в Польше он «может быть правильно решен только волею местного населения, т.е. решением местного законодательного собрания»9. Политический резонанс в стране и за рубежом вызвало обсуждение в думе подробностей еврейского погрома в Белостоке. Об остроте национального вопроса на Кавказе можно было судить по выступлениям Т.Э.Эльдарханова (Терская область), Х.И.Багатурова и И.А.Зиатханова (Елизветпольская губерния), И.И.Рамишви-ли (Кутаисская губерния). Власть восприняла презентацию этих интересов и постановку этноконфессионального вопроса в думе как угрозу системообразующим устоям империи и после разгона II Думы в парламентской политической жизни России все жестче противостояли друг другу централизм и регионализм, имперское и этническое. Это противостояние в 1907—1917 гг. проявлялось в сохранении этнорелигиозного неравенства, в резком сокращении представительства нерусских народов в третьеиюньской думской модели парламента (в IV Думе — лишь около 70 нерусских депутатов), ограничении Финляндской автономии, выделении из Царства Польского Холмской губернии, русификации и православизации образования и культуры, национальных притеснениях и этнических конфликтах (еврейские погромы, «армяно-азербайджанская резня»). На фоне усиления консервативных тенденций во власти, в связи с сокращением национального представительства и числа национально-региональных фракций в думах III—IV созывов депутаты продолжали презентовать этнорегиональ-ные интересы и выступали за последовательную демократизацию национальных отношений и разрешение национальных, конфессиональных и региональных вопросов империи (финляндского, польского, украинского, мусульман- ского, еврейского, сибирского, казачьего). Секретарь мусульманской фракции IV Думы адвокат И.А.Ахтямов, выступая с программой решения «мусульманского вопроса», заявил: «Выведите нас из положения граждан второго сорта... Дайте нам под сенью русского двуглавого орла возможность культурно развиваться и работать на пользу общества наравне со всеми русскими гражданами»10 Противостояние имперского этнорегиональному в условиях самодержавия завершалось в пользу имперского, однако приводило к катастрофическому углублению кризиса сразу в нескольких взаимосвязанных системах: власть — общество, центр — регионы, Дума — правительство, русские — инородцы, православные — иноверцы, переселенцы — коренные жители и т.д.11
В-четвертых, с учреждением Думы впервые появилась легально-легитимная возможность вхождения в политическую элиту империи (или контрэлиту, по отношению к правящему слою) представителям нерусских народов России, особенно выходцам из непривилегированных сословий. В Думе эти депутаты либо вошли в общероссийские политические фракции, либо организовали национально-региональные фракции и группы. Национально-региональные фракции не были однородными и организовывались по нескольким принципам, признакам и основаниям: этнотер-риториальному (Польское коло, украинская громада, латышская, литовская и эстонская группы); конфессиональному (мусульманская фракция); этносословному (казачья группа); региональному (группа западных окраин — польско-литовско-белорусская, сибирская). Национальные фракции нередко выступали в думе единым фронтом, блокировались с либеральными и демократическими партиями. Противовесом этим фракциям в III—IV думах стала организованная по национально-политическому принципу правомонархическая русская национальная фракция.
Деятельность национальных фракций способствовала формированию новых национально-региональных политических элит, многие думские депутаты именно в думе приобрели первый парламентский опыт и сформировались как политические деятели. После 1917 г. они стали создателями и руководителями национальных государств и мест- ных правительств. Так, член Государственной думы I—III созыва, лидер Польской национально-демократической партии В.Грабский занимал пост премьер-министра Польши, руководитель Польского коло во II и III Думах Р.Дмовский был членом правительства. Заметную политическую роль играли А.Ледницкий, М.Замойский, Я.Стецкий. Депутаты Думы активно участвовали в политической жизни получивших независимость Прибалтийских государств — Латвии (президент Я.Пакете, премьер-министр П.Юрашевский, министр Я.Гольдманис), Литвы (министры П.Леонас, А.Бу-лота), Эстонии (премьер-министр Я.Теннисон, Т.Юрине). После 1917 г. члены украинской громады в Думе В.М.Ше-мет, И.Л.Шраг, Я.К.Имшенецкий, П.И.Чижевский, А.Г.Вяз-лов, Ф.И.Штейнгель занимали заметные места в украинском национальном движении и украинских властных органах. В местных правительствах участвовали казачьи депутаты К.Л.Бардиж, М.А.Караулов, В.А.Харламов, И.Н.Ефремов, Н.А.Бородин, С.А.Таскин и Т.И.Седельников. Организаторами национальных правительств в Закавказье также выступили бывшие депутаты Думы: в Армении (М.И.Па-паджанов), Грузии (руководитель временного парламента и правительства Н.П.Жордания, председатель Закавказского сейма и председатель национального Учредительного собрания И.С.Чхеидзе, министры А.И.Чхенкели, Е.П.Гегечкори и И.И.Рамишвили, депутат И.Г.Церетели), Азербайджане (председатель парламента М.А.Топчибашев, премьер-министр Ф.И.Хан-Хойский, министры И.И.Гайдаров, Х.Г.Хас-Мамедов, М.Ю.Джафаров). После Февральской революции многие мусульманские депутаты включились в создание национальной автономии Волго-Уралья (Г.Ш.Алкин, Х.М.Атласов, И.А.Ахтямов, М.М.Биглов, С.С.Джантю-рин, К.Г.Хасанов, С.Н.Максудов, М.М.Рамеев). Лидер мусульманской фракции в III Думе С.Н.Максудов был председателем национального парламента мусульман Внутренней России и Сибири, председателем коллегии по образованию Урало-Волжского штата, после гражданской войны стал членом парламента Турции и членом турецкой делегации в Лиге наций. Члены Думы А.Н.Букейханов, А.К.Бе-ремжанов и М.Тынышпаев являлись идеологами и организаторами казахской национально-территориальной автоно- мии Алаш-Орда. Следует упомянуть и активную роль бывших депутатов Думы (С.Я.Розенбаум, Г.Я.Брук, Ш.Х.Левин) в становлении государства Израиль.
Деятельность депутатов национальных фракций, формировавших заметную часть новых национальных политических элит, отражала усложнение политической и социальной самоорганизации населения национальных и окраинных регионов империи, влияла на ускорение движения народов по пути модернизации, представляла собой начало весьма результативных попыток адаптации к национально-освободительному движению народов Российской империи начала XX в. европейских политических моделей развития и принципов демократической организации, парламентских приемов организации политической жизни, содействовала распространению демократических ценностей и складыванию новых элементов политической культуры общества, способствовала презентации этноконфессиональных и региональных интересов, а отчасти и некоторому разрешению этноконфессиональных и региональных запросов общества. Таким образом, местные предвыборные думские политические кампании, деятельность в Думе региональных и национальных политических лидеров, формирование в регионах политических партий стали главными факторами развития политической географии России начала XX в.
Кризис Российской империи как системы «центр — регионы» был связан с усложнением в начале XX в. этой системы и ростом региональной и этнической самостоятельности, в связи с чем требовалось создание новых механизмов регулирования системы. Одним из вариантов такого реформирования был проект, составленный С.Е.Кры-жановским в 1907—1908 гг., намечавший сосредоточение общеимперского законодательства в видоизмененном Государственном совете и «разделение империи на одиннадцать областей, с образованием в каждой областного земского собрания и областного правительственного управления с гражданским начальником во главе, имевшим заменить собой генерал-губернатора»12. Главным препятствием расширения регионального самоуправления в российской системе «центр — регионы» являлась жесткая имперская централизованная феодально-бюрократическая пирамида власти. В связи с созданием Думы и развитием партийнополитической жизни регионов сохранялась потенциальная возможность постепенного изживания имперских черт системы «центр — регионы» через развитие парламентаризма и конституционализма, расширение местного самоуправления и создание культурно-национальной автономии. Официальная идеология пыталась аргументировать достаточность имеющегося земского самоуправления, отказывая народам в праве не только на территориальную, но и культурную автономию. В результате усиливалась и анти-имперская, и антирусская направленность многих национальных движений (особенно в Польше и на Кавказе). П.Б.Струве, размышляя о пагубности этого официального национализма для развития российского парламентаризма и российской государственности, еще в 1910 г. писал: «Весь этот официальный национализм неизбежен уже потому, что только он может психологически скрашивать бессилие и унижение народного представительства. Он наркотизирует народное представительство и „оправдывает" абсолютизм с его противолиберальной и противодемократической политикой... наш официальный национализм... не только не укрепляет великодержавного положения России, а, наоборот, ослабляет его»13
Список литературы Государственная дума в географии власти и этнорегиональных процессах Российской империи
- Циунчук Р.А. Федерализм в России: исторические предпосылки и особенности генезиса // Федерализм: проблемы формирования. Казань, 1994. С. 72
- Он же. Российская империя как система «центр - регионы»: генезис, развитие, кризис // Пути познания России: новые подходы и интерпретации. Сер. Новая перспектива, вып. XX. М., 2001. С. 126-144.
- Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 1544. Оп. 1. Д. 16. Л. 76.
- Законодательные акты переходного времени (1904-1907 гг.). СПб., 1907. С. 140, 153.
- Материалы по учреждению Государственной Думы. СПб., 1905, С. 30.