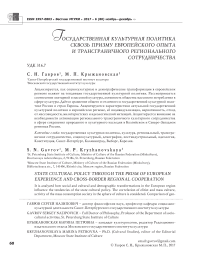Государственная культурная политика сквозь призму европейского опыта и трансграничного регионального сотрудничества
Автор: Гавров Сергей Назипович, Крыжановская Марина Петровна
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория культуры
Статья в выпуске: 6 (80), 2017 года.
Бесплатный доступ
Анализируется, как социокультурные и демографические трансформации в европейском регионе влияют на тенденции государственной культурной политики. Рассматривается соотнесение элитарной и массовой культуры, активность общества массового потребления в сфере культуры. Даётся сравнение общего и отличного в государственной культурной политике России и стран Европы. Акцентируются характеристики актуальной государственной культурной политики в европейском регионе, её индивидуализация, вариативность, отход от массовидности, милитаристских и идеологический интенций. Акцентируется внимание на необходимости активизации регионального трансграничного культурного сотрудничества в сфере сохранения природного и культурного наследия в Балтийском и Северо-Западном регионах России.
Государственная культурная политика, культура, региональный, трансграничное сотрудничество, социокультурный, демография, постиндустриальный, идеология, конституция, санкт-петербург, калининград, выборг, карелия
Короткий адрес: https://sciup.org/144161126
IDR: 144161126 | УДК: 316.7
Текст научной статьи Государственная культурная политика сквозь призму европейского опыта и трансграничного регионального сотрудничества
S. N. Gavrov1, M. P. Kryzhanovskaya2
-
1St. Petersburg State Institute of Culture, Ministry of Culture of the Russian Federation (Minkultury), Dvortsovaya naberezhnaya, 2, 91186, St. Petersburg, Russian Federation
-
2Moscow State Institute of Culture, Ministry of Culture of the Russian Federation (Minkultury), Bibliotechnaya str., 7, 141406, Khimki city, Moscow region, Russian Federation
STATE CULTURAL POLICY THROUGH THE PRISM OF EUROPEAN
EXPERIENCE AND CROSS-BORDER REGIONAL COOPERATION
It is analyzed how social and cultural and demographic transformations in the European region influence the tendencies of the state cultural policy. The correlation of elitist and mass culture, activity of the mass consumption society in the sphere of culture is considered. Comparison of gen-
ГАВРОВ СЕРГЕЙ НАЗИПОВИЧ – доктор философских наук, профессор кафедры социальнокультурной деятельности Санкт-Петербургского государственного института культуры
GAVROV SERGEY NAZIPOVICH – Full Doctor of Philosophy, Professor of the Department of sociocultural activities, St. Petersburg State Institute of Culture
КРЫЖАНОВСКАЯ МАРИНА ПЕТРОВНА – кандидат культурологии, редактор Редакционноиздательского отдела Московского государственного института культуры
Государственная культурная политика, как часть политики, меняется вместе с ней в различные периоды. Изменения эти носят страновой, региональный и глобальный характер, условную временную рамку им задаёт деление на аграрное, индустриальное и постиндустриальное (информационное) общество. Понятно, что это достаточно условная классификация, что различные страны неравномерно продвигаются по пути модернизации, что модернизационные социокультурные взлёты, как, например, в Иране в 1960-е годы, сменяются последующими глубокими падениями. Это многообразие страновых и региональных политических процессов создаёт пёструю политическую карту мира, с исторически значимой тенденцией перехода к демократии. Несмотря на все политические зигзаги, демократия стала наиболее распространённой формой политических режимов, порождающая её демократизация сопряжена с актуализацией модернизационных потенций культуры [11, с. 38–54] и проведением соответствующей им государственной культурной политики.
Что же происходит с культурой в рамках наиболее модернизированных западных обществ? Насколько важна культура в жизни общества, в его историческом воспроизводстве и актуализации различных элементов культурного наследия?
В эгалитарных обществах модерна XIX и первой половины ХХ века культурные отличия были важны, они служили своеобразным маркером социальной иерархии, её подтверждением на уровне габитуса. Определение этих отличий как отличий габитуса, по которым мы относим человека к «своим» или «чужим», позволяет, например, отличать тех, кто находится вверху социальной пирамиды, от тех, кто составляет массу в её основании.
Безусловно, нужно сделать поправку на сегодняшнюю масштабную горизонтальную и менее масштабную вертикальную мобильность, новые технологии, Интернет и криптовалюты, размывающих традиционную структуру общества, делающих её более неопределённой и потому более свободной. Но эта свобода относительна. Так, Р. Норт в книге «Институты, институциональные перемены и экономическая деятельность [10]» описывает «неформальные преграды», мешающие институциональной эволюции и исходящие от «социально передавае- мой информации, представляющей собой часть наследия, которое мы называем культурой ... Это укоренённая в языке концептуальная основа, позволяющая интерпретировать информацию, получаемую мозгом от органов чувств[10, с. 30]».
Антиподом массовой культуры выступает элитарная, или высокая, культура, на которой основывается габитус элиты в странах с укоренённой культурной и демократической традицией, например в Великобритании. Высокая культура служит важнейшим механизмом институционализации, за счёт которой «формирует габитус актора. Это и есть та самая диспозиция, которая повторяется на практике и закрепляется существующим стилем жизни… [8, с. 39]». Стиль жизни, в свою очередь, проявляется в особенностях картины мира, потребления и творчества во всех сферах, в том числе в сфере культуры. Так, произведения классической музыки, И.-С. Баха или П. И. Чайковского, напри- мер, не получают массового распространения не потому, что они недоступны или дороги, но потому, что потребность обращаться к ним является прерогативой наследственной западной элиты и интеллигенции в её российском понимании, их «знаком отличия», их габитусом.
Вопрос тенденций в демографической ситуации, об экономических и социально-культурных причинах, её обусловивших, имеет самое непосредственное отношение к политике вообще и государственной культурной политике в частности. Пример в этом отношении даёт нам послевоенная Западная Европа, построившая общество потребления, реализовавшая для массы своих граждан «европейскую потребительскую мечту».
Мечта европейцев о хорошей жизни не ограничивалась лишь потреблением благ материальной культуры, распространяя потребление и на блага культуры духовной. Во многом это желание идёт от соотнесения со вкусами буржуазии, элиты, сохраняющей генетическую связь с дворянской культурой.
Соотнесение это может состоять в принятии или бунте против элитарных культурных представлений и вкусов в рамках ревизии ценностей, проводимой каждым новым поколением европейцев. Механизмом такой трансляции и ревизии служат СМИ, информационные сети в рамках Интернета, рекламные и PR-кампании элитарных брендов. Эта полифония информационного воздействия способствует широкой общественной диффузии элементов высокой, сегодня преимущественно буржуазной, культуры и многовариантных проявлений контркультуры. В области пересечения этих культурных трансляций выстраивается новая усредненная культурная нормативность, разделяемая массой, – массовая культура, хорошо монетизируемая и легкоусвояемая в массовом масштабе.
Хорошо здесь уже то, что культурный продукт среднего сегмента (масс-маркет в культуре) получает массовый потребительский спрос, порождая желание соотносить своё потребительское поведение и быт с задаваемыми культурными стандартами. Это меняет человека масс, делает его успешным потребителем, который всё менее думает о любых социальных общностях, начиная с семьи и заканчивая государством и нацией.
В ХХ веке ускоряется изменение существующего стиля жизни, модели демографического воспроизводства населе- ния в Европе, новой социально-демографической нормой становится нуклеарная семья с одним ребенком, позднее вступление в брак, массовое безбрачие [1, с. 352]. Иными словами, здесь, как и в экономике, происходит радикальный переход от количества к качеству, от экстенсивности к интенсивности.
В этом переходе наблюдается проявление закономерности, связывающей господствующую модель воспроизводства населения и актуальную государственную культурную политику. Так, изменение этой модели в ХХ веке в Европе привело к существенному росту уровня образования и доходов европейцев. Нормативной для западных европейцев стала семья с одним ребёнком с хорошим, часто очень хорошим, образованием. И это не только профессиональная подготовка, связанная с инвестициями, финансовой сферой и её юридическим сопровождением. В своём максимальном воплощении эта тенденция выражается в получении элитарного образования, когда многие молодые европейцы стали получать профессии гуманитарной сферы, включая массовую, сверх потребностей рынка, подготовку искусствоведов и историков искусства, тем самым развивая себя и улучшая качество общества [11, с. 129–148].
Конечно, эти изменения европейской жизни не стоит списывать исключительно на изменения в демографическом поведении европейцев, но всё же они удивительно точно совпали с переходом к постиндустриальной экономике, с локализацией трудоёмких процессов и постепенным исчезновением огромных промышленных предприятий. В Европе с Запада на Восток прошла массовая де- индустриализация, предприятия мигрировали в страны с более дешевой рабочей силой, благодаря автоматизации оставшиеся смогли выпускать сопоставимые объёмы продукции при помощи несравнимо меньшего числа работников. Эта историческая макротенденция задаёт рамки актуальной государственной культурной политики, делает её более индивидуальной, вариативной, менее массовидной, милитаристской и идеологизированной. Одно дело, когда государство нацеливает культурную политику на «человека масс» индустриальной эпохи с регулированностью, иерархиями, лёгкой заменимостью работников, по-другому происходит с более плюралистичным и индивидуалистичным, нацеленным на индивидуальный успех обществом постиндустриальной эпохи. В русле этих общих макросоциальных и социокультурных изменений постепенно менялась и государственная культурная политика.
В 1970-е годы многие страны Европы начинают поиск новой культурной политики, основанной на идее удовлетворения потребностей не среднестатистического человека масс, а конкретного человека, живущего в собственном географическом, историческом и социокультурном контексте. Лозунг «культура для всех» трансформируется в утверждение «культура для каждого». В Мехико в 1982 году прошла представительная международная конференция по культурной политике, резюмировавшая обсуждение фразой: «Культура является основополагающим элементом жизни каждого человека и каждого общества». Пересмотр массовидной культурной политики индустриальной эпохи вышел на уровень транснациональных институтов, ООН приняла решение о проведении в 1988–1997 годах «Десятилетия всемирного развития культуры». Регионализация, обращение к конкретному человеку, поддержка куль- тур этнических меньшинств, частные и государственные инвестиции в культурные проекты стали частью культурной политики постиндустриальных обществ, способствуя общественному развитию и экономическому росту.
Повторимся, что речь идёт об изначально европейских, а затем и мировых тенденциях, с тем или иным опозданием распространяющихся в России – неотъемлемой части Европы и европейской культуры. В постсоветский период Россия осознанно пошла по пути восстановления собственной европейскости, практического применения опыта европейских социокультурных проектов. В области культуры это движение характеризовалось запретом цензуры на конституционном уровне, многочисленными социокультурными проектами, расширением международного культурного сотрудничества, прежде всего со странами Европейского Союза.
В своё время Л. Е. Востряков, эксперт в области государственной культурной политики, в разных формах задавал вопрос о том, «каким путём следует идти России уже в ближайшем будущем, исходя из понимания того, что общего и специфического есть в культурной политике России и стран Европы», полагая, что он может быть решён путём «сравнительного анализа концептуальных основ государственной культурной политики и мер по её практической реализации, как это видят сами субъекты культурной политики [5, с. 143; 3, с. 166–178; 4, с. 140–155].
В качестве примера такого плодотворного соотнесения российского и европейского опыта в сфере проведения актуальной культурной политики можно выделить социокультурную часть проекта «Северное измерение», включающую «Партнёрство для модернизации Россия – ЕС» и приграничное сотрудничество Россия – ЕС [9]. Это позитивный пример европейского регионального сотрудничества, посредством которого происходит неформальная интеграция России в европейское культурное, природоохранное, образовательное пространство. Регионами, наиболее вовлечёнными в этот процесс, стали Западный и Северо-Западный регионы страны, Санкт-Петербург, Калининград, Архангельск, Петрозаводск, регионализация культурного взаимодействия соответствует современным тенденциям в европейской культурной политике.
На федеральном уровне принятия законодательных решений мы также видим последовательную концептуализацию [7] и законотворческое оформление государственной культурной политики. В 2014 году в России принимаются «Основы государственной культурной политики», в 2016 году – «Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года». Принятые в этих документах основы государственной культурной политики определяют культуру как один из национальных приоритетов, указывая на её важность для социально-экономического развития Российской Федерации, улучшения качества жизни и гармонизации общественных отношений, рассматривая её как важнейший фактор сохранения единого культурного пространства и территориальной целостности страны.
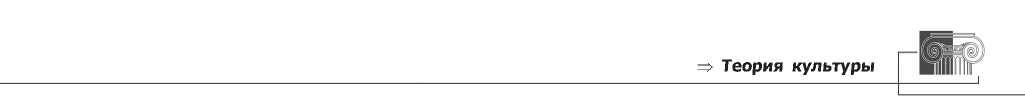
Список литературы Государственная культурная политика сквозь призму европейского опыта и трансграничного регионального сотрудничества
- Бим-Бад Б. М., Тавров С. Н. Модернизация института семьи: Макросоциологический, экономический и антрополого-педагогический анализ: монография. Москва: Интеллектуальная книга - Новый хронограф, 2010. 352 с.
- Бегенхолд Д. Социальное неравенство и социология стиля жизни. Материальные и культурные аспекты социальной стратификации // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11: Социология. Реферативный журнал / РАН. ИНИОН, Центр социал. науч.-информ. исслед. Отд. социологии и социал. психологии. 2002. № 3. С. 37-40.
- Востряков Л. Е. Государственная культурная политика: Когнитивные модели и страновые различия // Научные труды Северо-Западной академии государственной службы. 2011. Т. 2. Вып. 2. С. 166-178.
- Востряков Л. Е. Государственная культурная политика: От патерналистской к партнерской модели? // Управленческое консультирование. 2011. № 4. С. 140-155.
- Востряков Л. Е. Государственная культурная политика: Понятия и модели: монография. Санкт-Петербург: СЗИ РАХНиГС, 2011. 343 с.