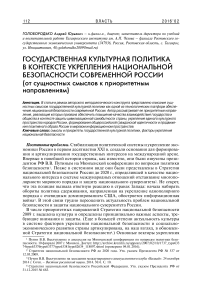Государственная культурная политика в контексте укрепления национальной безопасности современной России (от сущностных смыслов к приоритетным направлениям)
Автор: Голобородько Андрей Юрьевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Идеи и смыслы
Статья в выпуске: 2, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье в рамках авторского методологического конструкта представлено описание сущностных смыслов государственной культурной политики как одной из технологических платформ обеспечения национальной безопасности современной России. Автор рассматривает ее приоритетные направления, реализация которых призвана обеспечить повышение качества взаимодействия государства и общества в контексте защиты цивилизационной самобытности страны, укрепления единого культурного пространства народов России, формирования общероссийской гражданской идентичности и продвижения позитивного образа России в мировом информационном пространстве.
Смыслы и приоритеты государственной культурной политики, факторы укрепления национальной безопасности
Короткий адрес: https://sciup.org/170168278
IDR: 170168278
Текст научной статьи Государственная культурная политика в контексте укрепления национальной безопасности современной России (от сущностных смыслов к приоритетным направлениям)
В числе приоритетных направлений Стратегии национальной безопасности 2009 г. выделена культура и определены принципиально важные аспекты, требующие внимания и защиты. (Еще в большей степени актуальность культуры в системе факторов укрепления национальной безопасности и социальноэкономического развития страны артикулирована, на наш взгляд, в обновленной Стратегии национальной безопасности4.) Основные векторы укрепления национальной безопасности комплексом механизмов «культурного измерения» концептуализированы в рамках государственной культурной политики, содержательное ядро которой представлено в Основах государственной культурной политики1. В документе, в частности, обоснована необходимость политического управления сферой культуры, которое включает выдвижение стратегических целей, определение ресурсов, институтов и методов достижения целей, а также разработку и реализацию механизмов организации взаимодействия акторов воспроизводства и развития культуры.
В новых геополитических условиях для современной политологии и политической практики актуальным становится изучение эффективного включения культурной политики в систему национальной безопасности. До последнего времени культура рассматривалась преимущественно как объект национальной безопасности. Консервативный потенциал культуры, обеспечивающий ее устойчивость в условиях внешних и внутренних вызовов, до сих пор слабо используется в рамках разработки и реализации механизмов обеспечения национальной безопасности. Думается, концептуальная проработка такого подхода к культурной политике предполагает осмысление культурного потенциала России, а также внешних вызовов и внутренних угроз культуре как цивилизационному коду в условиях экспансии экономического прогресса, сопряженного с размыванием традиционных ценностей и культурных норм, массовизацией и прагматизацией культур. Не менее важной, на наш взгляд, проблемой в этом направлении является анализ условий реализации такого подхода к культурной политике в политикоуправленческом и социальном пространствах, т.е. в области взаимодействия всех заинтересованных субъектов, включенных в сферу культурного производства и культурного творчества.
Разработка инструментария государственной культурной политики как системы управленческих действий требует преодоления сложностей, обусловленных достаточно высокой степенью теоретической энтропии в рассмотрении вопросов функционирования и развития культуры. Так, долгое время в политологическом анализе культура отождествлялась преимущественно с художественным творчеством и духовной жизнью общества. Лишь в 80-е гг. прошлого столетия в мировой и отечественной науке возникает понимание того, что в сферу культуры входит взаимосвязь различных форм поведения людей, фиксируемых и формируемых системой ценностей конкретного общества, а потому культура является не функцией развития социально-экономической системы, а напротив, – значимым фактором, определяющим это развитие [Хантингтон 2002: 11; Сакс 2002: 81] .
Культура имеет свою инфраструктуру, институты, а также систему управления [Маршак 2007] . Институциональная основа культуры воспроизводит ее самобытность, единый цивилизационный код. Цивилизационный (культурноцивилизационный) код России в официальных государственных документах «характеризуется особым стремлением к правде и справедливости, уважением самобытных традиций населяющих Россию народов и способностью интегрировать их лучшие достижения в единую российскую культуру» 2 .
В современной внешней политике России культурно-цивилизационный код проявляется в стремлении к утверждению многополярного мира и уважении национального суверенитета всех государств.
Во внутренней политике уникальная культурно-цивилизационная платформа в рамках дискурса национальной безопасности обусловливает необходимость раз- вития механизмов конструирования гражданского единства народа современной России на основе общих культурных ценностей и общих целей развития1.
К вопросу о кризисе культуры . В пространстве социально-гуманитарного знания современной России активно артикулируется мысль о том, что в условиях социокультурного кризиса дополнительные риски и угрозы национальной безопасности продуцируются кризисными явлениями в культуре. Р.Г. Яновский, например, выделяет такие индикаторы кризисного состояния культуры, как недооценка культурного фактора в общественном развитии со стороны политической элиты и научной общественности; остаточный принцип финансирования культурного строительства; неприятие понятия «культурная безопасность» и др. [Яновский 1999: 208-233].
При этом кризис культуры в значительной мере влияет на духовное состояние личности и всего общества. Этот сюжет подробно и многопланово был исследован, например, Ж.Т. Тощенко. Понятие «кризис культуры» раскрывает ситуацию, возникающую в результате резких изменений в социально-культурной сфере, связанных с ослаблением и разрушением прежних духовных структур и институтов, ценностных систем, с утратой людьми чувства стабильности и уверенности, нарастанием настроений растерянности, страха, отчуждения [Тощенко 2001; Алейникова 2005].
В контексте анализа кризиса культуры современного общества отечественные ученые в последние десятилетия активно обсуждают проблему обеспечения безопасности культуры как одну из главных задач национальной безопасности государства в целом. Основную угрозу российской культуре представители почвеннического направления в социально-политических науках усматривают в экспансии западной культуры, которая началась в период руководства страной М.С. Горбачевым. Как отмечает один из представителей этого направления, «утрата культурной самобытности, размывание культурно-генетического ядра народа сегодня – самая большая угроза всей национальной безопасности России» [Сапрыкин 1997].
П.Н. Беспаленко проводит анализ динамики духовного и культурного состояния общества и выявляет в этой связи угрозы и риски для национальной безопасности. Его политологический анализ институциональных факторов и условий обеспечения духовной безопасности в контексте национальной безопасности базируется на том, что системная трактовка национальной безопасности предполагает введение понятия «духовная безопасность», сущность которого заключается в оптимальном достижении устойчивого и гармоничного социального, экономического, политического развития и состояния духовной сферы общества. Тем самым, духовная безопасность выступает качественной характеристикой состояния общества в аспекте его духовно-нравственной и мировоззренческой состоятельности, потенциала базовых целей и ценностей, баланса индивидуальных, групповых и социетальных интересов, функциональной согласованности политических институтов, идеологии и культуры [Беспаленко 2006; 2007; 2009].
...Психически здоровый человек с развитым сознанием не может существовать в бессмысленной для себя среде. Если человек стремится найти смысл в своих действиях, в формах общения с другими людьми, в своих поведенческих проявлениях, он не может не «испытывать потребности обнаружить смысл жизни как целостной, неразрывной временной сплошности» [Агафонов 2000]. Имеющий «зачем», может выдержать любое «как», считал Ф. Ницше. Как известно, в экзистенциальной психотерапии состояние, характеризующееся смыслоутратой, получило свое специальное обозначение – «экзистенциальный вакуум». Выявлено, что, помимо множества факторов психологического порядка, немаловажное значение для анализа утраты смысла существования имеют факторы социальной и культурной отнесенности. При этом очевидно: провести грань между сферой духовного и сферой социокультурного в рамках поиска ответа на вопрос о смысловых ориентирах жизнедеятельности достаточно сложно. Человек есть «пересечение смысловых сфер» (бисфера, когнитивная, социальная, духовная сферы) и являет собой коэк-зистенцию индивида/субъекта/личности/индивидуальности [Ганзен 1984].
Ведущие отечественные и зарубежные психологи убедительно доказали, что психически здоровый человек в состоянии сознания является всегда по отношению к миру субъектно настроенным, активно действующим, созидающим этот мир в актах осмысленной деятельности [Зинченко 1998].
В этом психолого-антропологическом контексте в рамках конструирования содержания государственной культурной политики уместно, на наш взгляд, говорить о том, что его латентным целевым ориентиром должно выступать технологическое обеспечение выработки активного отношения наших сограждан к культурно-цивилизационному коду России, способствуя их духовному взрослению, развитию по линии гражданской идентичности, мировоззренческого становления, нравственного совершенствования («память расширяет время, в котором живет человек» [Рассел 1997: 227]). Считаем, что одним из смыслов государственной культурной политики может и должна стать совместная деятельность власти и общества по активному наполнению просветительского контента и его трансляции через различные каналы коммуникаций.
На основе сказанного выше к ядру сущностных смыслов политики в сфере культуры следует отнести:
– нацеленность на укрепление единого культурного пространства, источником которого выступает культурное многообразие и духовная общность народов России;
– формирование гражданской идентичности, основанной на восстановлении исторической связи времен (что адекватно расширению памяти народа) и усилении взаимодействия и солидарности народов;
– обращенность на продвижение позитивного образа России в мировом информационном пространстве, предусматривающее, с одной стороны, позиционирование в международных каналах коммуникаций ценностного контента культуры народов России, а с другой – информационно-просветительское сопровождение содержательных и атрибутивных аспектов континуума национальных интересов России.
Вопрос о выдвижении в качестве значимого исследовательского блока проблематики сущностных смыслов государственной культурной политики не нуждается, по нашему мнению, в дополнительной аргументации. Он непосредственным образом коррелирует с набирающими в последнее время в отечественной политологии обороты трендами развития политологической инноватики, призванной не только интерпретировать навязываемые догмы и теории, а «объяснять суть вещей», обеспечивая повышение качества научного знания и способствуя появлению дополнительных ценностей в формате качественного превосходства, приоритета, лидерства и др. [Сунгуров 2010: 4-7; Старостин 2012].
Представленные сущностные смыслы государственной культурной политики являются составной частью методологического конструкта исследования, в основу которого положен принцип системности, рассматривающий культуру в контексте ее интегрирующей функции в социально-политической системе. Опираясь на этот принцип, наш исследовательский конструкт включает:
-
1) анализ смысловых и функциональных основ культуры в обеспечении цивилизационной определенности государства;
-
2) установление внутренних рисков и внешних угроз интегрирующему потенциалу культуры и ее безопасности;
-
3) выявление механизма государственного регулирования сферы культурного производства;
-
4) определение приоритетных направлений государственной политики, обеспечивающих культурную безопасность, и описание противоречий ее реализации в бюрократических практиках управления.
С учетом объективной сложности описания в рамках настоящей статьи всей гаммы компонентов применяемого конструкта, подробнее остановимся на обосновании выделения некоторых приоритетных направлений государственной культурной политики в разрезе обеспечения возможностей укрепления национальной безопасности современной России.
Во-первых, в обстановке нарастающих внутренних и внешних вызовов, а также очевидных препятствий и сложностей реализации государственной культурной политики в современных условиях функционирования государства и общества важная роль принадлежит укреплению институтов социализации молодого поколения, которому объективно определена миссия быть субъектом сохранения и расширенного воспроизводства жизненных оснований культуры.
Как латентный социальный капитал мы рассматриваем качестве таких институтов образование и семью, которые формируют базисные поведенческие паттерны культуры в системе взаимоотношений «родитель – ребенок», «учитель – ученик», «индивид – общность», «мужчина – женщина», «гражданин – государство». Воспроизводство этих поведенческих паттернов, ориентированных на нестяжательство, приоритет труда над потреблением, духовных смыслов над прагматикой, лежит в основе российской культуры, обеспечивает ее устойчивость по отношению к рискам модернизации и внешним вызовам. Поэтому укрепление данных институтов рассматривается нами как один из приоритетов культурной политики государства, рассмотренной в контексте обеспечения национальной безопасности. В рамках рассмотрения условий содержательного формирования изучаемых институтов предметом нашего анализа является современный педагогический дискурс как функционирующая под патронатом государства социально-культурно-просветительская среда, актуальное нормативное поле развития системы общего и высшего образования (в т.ч. в части вопросов, касающихся совершенствования качества управления образовательной сферой), а также континуум взаимодействия государства и общества в рамках создания условий для активного производства и трансляции культуроцентричных ценностей как стратегически важного компонента контента образовательной политики в современной России.
В качестве второго, весьма релевантного, на наш взгляд, приоритета государственной культурной политики нами изучается инструментарий гуманитарного влияния – «мягкая сила». Считаем, что в условиях сохранения в международной политике блокового принципа и дефицита доверия между партнерами большое значение в снижении международной напряженности приобретают инструменты гуманитарного (культурного) воздействия, которые, обращаясь к широким социальным слоям международной общественности, преодолевают политические барьеры и обеспечивают рост доверия к России на международном уровне. К таким инструментам можно отнести:
-
– конструирование позитивного имиджа России через позиционирование духовных ценностей и сотрудничества ее народов;
-
– интеграцию в международную жизнь высоких достижений и творческих коллективов российской классической и массовой культуры, спорта, науки и медицины;
-
– русский язык, выступающий инструментом самобытной лингвокультурной концептуализации мира;
-
– инновационные массмедийные технологии, эффективное использование которых обеспечивает оперативное продвижение в мировом информационном пространстве позиции России по актуальным проблемам развития международного сообщества.
В-третьих , с учетом того, что политико-управленческий контекст реализации культурной политики определяется мотивацией профессиональной деятельности бюрократической управленческой элиты, важным направлением государственной культурной политики можно считать обеспечение качественного развития управленческой элиты. Доминирующие сегодня в мировоззрении элиты технократические стереотипы существенным образом «гасят» импульс идеологии государственной стратегии в сфере культуры, что противоречит ее основным целям. Сложившееся противоречие выступает сдерживающим фактором реализации культурной политики, укоренено в системных основаниях, определяющих качество управленческой элиты, и препятствует формированию управленческой элиты с культуроцентричной системой мотивации. В этой связи одним из актуальных направлений государственной культурной политики должна, в нашем понимании, стать деятельность по минимизации имитационных составляющих в рамках формирования и развития системы подготовки управленческих кадров.
В-четвертых , излишни, на наш взгляд, аргументы в пользу того, что стратегия обеспечения культурной безопасности предполагает организацию активного диалога государства и общества в рамках реализации политики культурного просветительства, в процессе которого актуализируются базисные смыслы-ценности российской культуры. Этот диалог призван обеспечить кристаллизацию значимых лингвокультурных концептов, включая историкокультурные символы, персоналии и тексты, которые создают пространство цивилизационной и гражданской идентичности.
В заключение, безусловно признавая, что представленный перечень сущностных смыслов и направлений государственной культурной политики является отнюдь не исчерпывающим, отметим, что позиционируемый в рамках настоящей работы исследовательский подход, предусматривающий изучение проблемы амбивалентной роли культуры (с одной стороны, она выступает гуманитарной основой защиты национальной безопасности государства, а с другой – служит объектом защиты со стороны государства как его культурно-генетический код), может служить продуктивным фактором нового осмысления государственной культурной политики. Ее можно рассматривать как фундамент укрепления национальной безопасности – как с точки зрения обеспечения культурного единства и развития гражданской идентичности в контексте имманентных свойств жизнеспособности российского общества, так и в качестве когнитивного инструментария адекватного ответа России на динамично меняющуюся геополитическую систему отношений в мире.
Список литературы Государственная культурная политика в контексте укрепления национальной безопасности современной России (от сущностных смыслов к приоритетным направлениям)
- Агафонов А.Ю. 2000. Человек как смысловая модель мира. Самара: ИД «Бахрах-М». 170 с
- Алейникова О.С. 2005. Влияние культурного кризиса на проявление социального одиночества в современной России. -Человек постсоветского пространства: сборник материалов конференции. Вып. 3 (под ред. В.В. Парцвания). СПб: Санкт-Петербургское философское общество
- Беспаленко П.Н. 2006. Духовная безопасность: политологический анализ. Ростов н/Д: Изд-во РГУ. 172 с
- Беспаленко П.Н. 2007. Угрозы и вызовы духовной безопасности России. Белгород: Белгородская областная типография. 224 с
- Беспаленко П.Н. 2009. Духовная безопасность в системе национальной безопасности современной России: проблемы институционализации и модели решения: автореф. дис. …д.полит.н. Ростов н/Д. 260 с
- Ганзен В.А. 1984. Системные описания в психологии. Л.: Изд-во Ленинградского университета. 176 с
- Зинченко П.И. 1998. Непроизвольное запоминание и деятельность. -Психология памяти (под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова). М.: ЧеРО. С. 463-475
- Маршак А. 2007. Социология культурно-духовной сферы. М.: Издательство гуманитарной литературы. 424 с
- Рассел Б. 1997. Человеческое познание. Его сферы и границы. Киев: Ника-Центр. 560 с
- Сакс Дж. 2002. Заметки о новой социологии экономического развития. -Культура имеет значение. Каким образом ценности способствуют общественному прогрессу. М.: Изд-во МШПИ
- Сапрыкин А. 1997. Культура -фундамент национальной безопасности России -Обозреватель (Observer). № 7. Доступ: http://observer.materik.ru/observer/N07_97/7_10.HTM (проверено 16.01.2016)
- Старостин А.М. 2012. Философия социально-гуманитарных инноваций: брошюра. Ростов н/Д: РИЦ ЮРИФ РАНХиГС. 72 с
- Сунгуров А. 2010. Нововведения и среда: на пути к политическим инновациям: учебное пособие. СПб. 115 с
- Тощенко Ж.Т. 2001. Парадоксальный человек. М.: Гардарики. 398 с
- Хантингтон С. 2002. Культуры -это серьезно. Культура имеет значение. Каким образом ценности способствуют общественному прогрессу. М.: Изд-во МШПИ
- Яновский Р.Г. 1999. Глобальные изменения и социальная безопасность. М.: Academia. 357 с