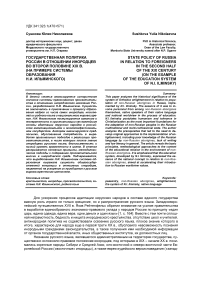Государственная политика России в отношении инородцев во второй половине XIX в. (на примере системы образования Н.И. Ильминского)
Автор: Сушкова Юлия Николаевна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 1, 2021 года.
Бесплатный доступ
В данной статье анализируется историческое значение системы православного просветительства в отношении инородческого населения России, разработанной Н.И. Ильминским. Сущность ее заключалась в привлечении к процессу образования кадров из числа самих инородцев, носителей их родного языка и национального мировоззрения. Н.И. Ильминским постулируются гуманизм и толерантность в христианизации как важнейшие основы адаптации нерусских народов в российском многонациональном и многоконфессиональном государстве. Автором анализируются предпосылки, обусловившие потребность в выработке оригинальных подходов к реализации просветительства, в числе которых плохое знание инородцами русского языка, бесписьменность и низкий уровень грамотности в целом. В статье раскрываются основные принципы, методологические подходы к содержанию просветительской миссии в инородческой среде. Подчеркивается, что выработанная Н.И. Ильминским система образования выражала сущность общегосударственной концепции в отношении инородцев, нацеленной на ускорение их приобщения к русским мировоззренческим ценностям.
Крестьянство, инородцы, просветительство, система н.и. ильминского, родной язык
Короткий адрес: https://sciup.org/149134891
IDR: 149134891 | УДК: 341:323.1(470+571) | DOI: 10.24158/fik.2021.1.9
Текст научной статьи Государственная политика России в отношении инородцев во второй половине XIX в. (на примере системы образования Н.И. Ильминского)
Для ускорения процессов адаптации нерусских народов в составе единого государства важную роль играло не только крещение, но и распространение русского языка. Западноевропейский путешественник XVII в. Яков Рейтенфельс обратил внимание на усилия правительства в выработке единообразного экономико-правового уклада у народов России по принципу «един царь, едина одежда, едина вера, одни деньги и один язык» [1, с. 164]. Вместе с тем почти сплошная неграмотность, бедность и нищета инородческого крестьянства, отсутствие школ и учителей, антинародная политика не содействовали освоению русского языка, плохое знание которого в итоге, характерное для народа еще в первой трети XX в., обусловило невозможность познания инородными гражданами законодательства, а также получения ими необходимой информации от органов государственной власти, иных общественных институтов, их должностных лиц.
Незнание русского языка, являвшегося административным на территории государства, существенно осложняло правовое положение инородцев, под которыми в XIX – начале XX в. понимались коренные народы Сибири и Средней Азии, юго-восточной и северо-восточной части Европейской России («восточные» инородцы), а также евреи иудейского вероисповедания («запад- ные» инородцы). Официально термин «инородцы» был введен «Уставом об управлении инородцев» в 1822 г., разделившим их на оседлых, кочевых и бродячих. До этого события нерусские народы относили к ясачным людям.
Если в XVII в. русскому человеку тяжело было существовать в низших слоях служилого и неслужилого сословий, то инородческому населению при тех же условиях приходилось еще тяжелее. Разность языка и веры ставила таких граждан в особое положение в глазах русского народа. Вследствие этого воеводы и другие служилые люди в своих вымогательствах и насилиях относительно инородцев еще «менее стеснялись», чем по отношению к русскому православному населению. Известно, например, что сбор ямских денег до такой степени разорил мордву Нижегородского уезда, что в 1639 году она, не дождавшись летом уборки хлеба, покинула свои деревни и поля, убежав в дремучие леса [2].
Рассуждая о пользе обучения мордвы русской грамоте, И. Посошков еще в XVIII в. отмечал, что необходимо это сделать, поскольку к ним (мордве – Ю.С.) еще больше, чем в русские деревни, приезжают солдаты, приставы, подьячие с указом или без него, где «чинят, что хотят», поскольку инородцы – «люди безграмотные и беззаступные». «И того ради всякий их изобижает, и чего в указе никогда не бывало, того на них спрашивают и правежом правят» [3, с. 75–76].
С одной стороны, государственная власть принимала документы, в соответствии с которыми к новокрещенам следовало относиться более внимательно. Так, в спорах между ними и русскими предписывалось разбирательство «чинить скорее», принимать решение без волокиты; между собственно инородцами в незначительных делах для разбирательства избирать тех из них, кто был бы «посмысленнее», и знал бы «русский язык довольно» [4, с. 167–168].
Фактическая реализация государственной политики по христианизации нерусских народов сопровождалась насилием и злоупотреблениями. Русские проповедники и миссионеры нередко вымогали у них деньги: настаивали на заучивании ими молитв, которых по весьма «худому» знанию русского языка и «непонятию» инородцы не могли воспринять, стращали «взятьем и содержанием в городе для оного обучения под караулом», в силу чего новокрещены по «совершенному чистосердечию и по уторопленности» давали им денег. Кроме этого, объявив новокрещенов законопреступниками, священники не только угрожали им «взятьем в город» для жесточайших разбирательств, но и разорением хозяйства, когда рубили окна и двери, ломали печи и трубы, били плетьми без всякого милосердия и вершили подобные дела [5, с. 122–123].
Демократ-революционер В. Флеровский констатировал бесчисленные злоупотребления царской администрации в отношении инородческих граждан. Как отмечал исследователь, незнание сотнями тысяч татар, мордвы, чувашей, черемис русского языка, выучиться которому они не имели возможности, становилось причиной обмана и бесчисленных злоупотреблений со стороны должностных лиц различных органов государственной власти. При этом ими часто не принимался во внимание этнический аспект. Чиновник вел дела, говорил только на русском языке, наплевательски относясь к тому, понимают ли его или нет. Многочисленные инородческие этносы (татары, мордва, чуваши, марийцы и др.) должны были выучить русский язык только для того, чтобы объясняться с одним чиновником. Ввиду того, что для этого у них не имелось ни финансовых средств, ни иных организационных возможностей, подобное обстоятельство становилось «орудием» множества злоупотреблений [6, с. 198].
Крайне ценны наблюдения В. Флеровского, касающиеся потенциала применения языков инородческих этносов в практике государственного управления. Как отмечал ученый, общество и государство настолько привыкли к рутинному, даже примитивному восприятию вещей, что казалось «странным» представить инородца в качестве чиновника или ведение делопроизводства в официальных учреждениях на языках нерусских граждан. Однако более «справедливой» политики, чем создание необходимых условий для решения административных дел в отношении инородцев, которые платят налоги и исполняют обязанности наравне с русским крестьянством, трудно выработать. Исследователь полагал совершенно правильным, что нерусскими гражданами государства должны были управлять те лица, которые хорошо знали их языки, быт. Кроме того, он считал целесообразным закрепить за представителями национальных меньшинств право обращаться в органы государственной власти на родном языке. Такое положение представлялось возможным только в том случае, если официальные правительственные учреждения пополнялись бы «мордовским и черемисским элементом» [7, с. 199].
Многие исследователи подчеркивали значимость выработки такой национальной политики, при которой сближение русских с инородческими народами происходило бы преимущественно в силу «естественных причин» без «насильственного насаждения русского языка и русской культуры», ибо оскорбление национального достоинства, которое имеется даже у самого немногочисленного народа, заставляет его особенно крепко держаться за свои этнические особенности, дорожить родным языком, древними обычаями, а преследования на национальной почве лишь усиливают подвергающийся дискриминации этнос, сплачивают его, делая более стойким в деле отстаивания национальной самобытности [8, с. 9–11].
Выдающуюся роль в сфере просветительства инородцев сыграла деятельность педагога-миссионера, члена-корреспондента Императорской академии наук Николая Ивановича Ильмин-ского (1822–1892). Разработанная им система основывалась на использовании в просвещении родного языка инородцев. Первоначально модель образовательной системы для национальных меньшинств выстраивалась на русском языке и без учета их этнических различий. Н.И. Ильмин-ский обратил внимание на несостоятельность такого подхода, справедливо полагая, что причиной «неуспешности» учеников является не их «прирожденная умственная тупость», а недостатки системы самого обучения [9].
К важнейшим принципам организации инородческого просветительства педагог относил следующие: процесс обучения таких граждан должен вестись исключительно на родном для них языке; учитель – выходец из инородческой среды; учебные материалы должны характеризоваться доступностью, простотой и ясностью изложения. Посвятив делу просвещения всю жизнь, Н.И. Ильминский сам глубоко познал особенности жизни и быта инородческих народов Поволжья. Он считал неприемлемым в длительном процессе христианизации обращение властей только к методам полицейского права, системе государственных поощрений и санкций. Часто получая информацию непосредственно от инородцев, Н.И. Ильминский понимал, что в числе причин принятия большинством из них православия было стремление приобрести льготы от податей, избежать наказания за малозначительные проступки, призыва в рекруты.
Педагог подчеркивал, что тексты на родной для инородцев язык необходимо переводить как можно «проще, прямее, естественнее, объяснительнее и применимее к быту, положению и пониманию инородцев» [10, с. 13]. «Чтобы передать им христианское догматическое и нравственное учение…, нужно приноровиться к их религиозным понятиям и нравственным убеждениям, к своеобразному их мышлению» [11, с. 29]. По мысли Н.И. Ильминского, русский человек, хотя и говорящий на родном языке инородцев, все же будет оставаться им чужим. «Лучшими деятелями на почве просвещения каждого народа будут представители этого же народа, и только они одни, с их совершенным знанием данного инородческого языка, знанием всей жизни и миросозерцания инородцев, с их общей близостью к этим последним, – разумеется, при соответствующем образовании» [12, с. 8].
На базе практики Н.И. Ильминским была разработана уникальная система обучения, согласно которой преподавание для нерусских школьников в начальных классах велось на родных для них языках [13, с. 295]. В 1872 г. под руководством педагога была учреждена Казанская учительская инородческая семинария, сыгравшая чрезвычайно важную роль в становлении образования, просвещения инородцев, послужившая источником формирования национальной интеллигенции [14, с. 646].
Методологический подход к образованию, реализованный Н.И. Ильминским, способствовал реализации такой системы миссионерства, под которым понималось не просто «обращение в православие и крещение инородцев, но постепенное и искреннее усвоение ими христианской нравственности и христианского мировоззрения» [15, с. 154].
Принципы осуществления народного просвещения на родных языках подчеркивались в решении инородческого съезда 1909 г., отразившем народные чаяния по созданию такой «инородческой национальной школы», «народной школы», в которой «каждая национальность могла бы воспитывать свою молодежь на родном языке и сообразно индивидуальным бытовым, психологическим и историческим особенностям своей культуры, исходя из нее и приобщаясь к русской культуре, а через нее – и к мировой» [16, с. 10].
Таким образом, выработанная Н.И. Ильминским система образования выражала сущность общегосударственной концепции в отношении инородцев, нацеленной на ускорение их приобщения к русским мировоззренческим ценностям. Используя прогрессивный опыт власти дореволюционной эпохи, пришедшая на смену ей советская власть стремилась быть более понятной для нерусских народов, для чего взаимодействовала с гражданами на родном языке, проводилась политика, чтобы школы и органы власти опирались людей местных, знающих язык, нравы, обычаи, быт нетитульных этносов.
Ссылки:
-
1. Рейтенфельс Я. Сказания светлейшему герцогу Тосканскому Козьме Третьему о Московии. М., 1905. 242 с.
-
2. Борисовский А. Краткие сведения о селе Вередееве Нижегородского уезда // Нижегородский сборник, издаваемый губернским статистическим комитетом. Н. Новгород, 1867. С. 197–198.
-
3. Посошков И.Т. Книга о скудости и богатстве. М., 1937. 356 с.
-
4. Документы и материалы по истории Мордовской АССР : в 4 т. Т. 3, ч. 1: 1751–1800 гг. Литературные описания мордвы, составленные в XIX в. Саранск, 1939. 343 с.
-
5. Маркелов М.Т. Избранные труды. Саранск, 2009. 281 с.
-
6. Берви-Флеровский В.В. Положение рабочего класса в России // Избранные экономические произведения : в 2 т. Т. 1. М., 1958. 618 с.
-
7. Там же. C. 199.
-
8. Максимов А.Н. Какие народы живут в России. М., 1919. 126 с.
-
9. Зеленин Д.К. Н.И. Ильминский и просвещение инородцев (к 10-летию со дня смерти 27 декабря 1901 г.). СПб., 1902. 20 с.
-
10. Там же. С. 13.
-
11. Рождествин А.Н. Н.И. Ильминский и его система инородческого образования в Казанском крае. Казань, 1900. 85 с.
-
12. Зеленин Д.К. Указ. соч. С. 8.
-
13. История Мордовской АССР: в 2 т. Т. 1. Саранск, 1979. 320 с.
-
14. Чичерина С. В. Положение просвещения у приволжских инородцев // Известия Императорского русского географического общества. 1906. Т. 42. № 2–3. С. 591–647.
-
15. Ильминский Н.И. Система народного и в частности инородческого образования в Казанском крае // Сотрудник Братства свят. Гурия. 1910. № 10. С. 151-158.
-
16. Зеткина И.А. Макар Евсевьев. Саранск, 2014. 43 с.
Редактор: Ситникова Ольга Валериевна Переводчик: Кочетова Дарья Андреевна
Список литературы Государственная политика России в отношении инородцев во второй половине XIX в. (на примере системы образования Н.И. Ильминского)
- Рейтенфельс Я. Сказания светлейшему герцогу Тосканскому Козьме Третьему о Московии. М., 1905. 242 с.
- Борисовский А. Краткие сведения о селе Вередееве Нижегородского уезда // Нижегородский сборник, издаваемый губернским статистическим комитетом. Н. Новгород, 1867. С. 197-198.
- Посошков И.Т. Книга о скудости и богатстве. М., 1937. 356 с.
- Документы и материалы по истории Мордовской АССР : в 4 т. Т. 3, ч. 1: 1751-1800 гг. Литературные описания мордвы, составленные в XIX в. Саранск, 1939. 343 с.
- Маркелов М.Т. Избранные труды. Саранск, 2009. 281 с.
- Берви-Флеровский В.В. Положение рабочего класса в России // Избранные экономические произведения : в 2 т. Т. 1. М., 1958. 618 с.
- Там же. а 199.
- Максимов А.Н. Какие народы живут в России. М., 1919. 126 с.
- Зеленин Д.К. Н.И. Ильминский и просвещение инородцев (к 10-летию со дня смерти 27 декабря 1901 г.). СПб., 1902. 20 с.
- Там же. С. 13.
- Рождествин А.Н. Н.И. Ильминский и его система инородческого образования в Казанском крае. Казань, 1900. 85 с.
- Зеленин Д.К. Указ. соч. С. 8.
- История Мордовской АССР: в 2 т. Т. 1. Саранск, 1979. 320 с.
- Чичерина С. В. Положение просвещения у приволжских инородцев // Известия Императорского русского географического общества. 1906. Т. 42. № 2-3. С. 591-647.
- Ильминский Н.И. Система народного и в частности инородческого образования в Казанском крае // Сотрудник Братства свят. Гурия. 1910. № 10. С. 151-158.
- Зеткина И.А. Макар Евсевьев. Саранск, 2014. 43 с.