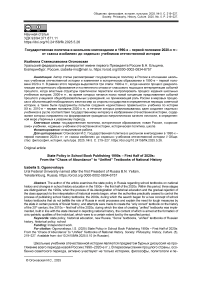Государственная политика в школьном книгоиздании в 1990-х – первой половине 2020-х гг.: от «хаоса изобилия» до «единых» учебников отечественной истории
Автор: Огоновская И.С.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 5, 2025 года.
Бесплатный доступ
Автор статьи рассматривает государственную политику в России в отношении школьных учебников отечественной истории и изменения в историческом образовании в 1990-е – первой поло-вине 2020-х гг. В рамках этого периода выделяются три этапа: 1990-е гг., когда начался процесс деидеологизации исторического образования и постепенного отказа от классового подхода в интерпретации событий прошлого, когда властные структуры практически перестали контролировать процесс издания школьных учебников истории; 2000-е гг., во время которых начался поиск новой концепции представления событий прошлого учащимся общеобразовательных учреждений, не принижающей роль России в мировых процессах и объясняющей необходимость жестких мер со стороны государства в определенные периоды советской истории, а также были предприняты попытки создания «единственно правильного» учебника по истории XX в.; 2010-е – первая половина 2020-х гг., в течение которых реализовывалась идея создания «единых» учебников в русле соответствия государственному интересу в изображении отечественной истории, содержание которых направлено на формирование гражданско-патриотических качеств личности, в определен-ной мере утерянных к указанному периоду.
Государственная политика, историческое образование, новая Россия, «соросовские» учебники, «единые» учебники отечественной истории, историческая политика, школа
Короткий адрес: https://sciup.org/149147968
IDR: 149147968 | УДК: 93/94:371.671.11 | DOI: 10.24158/fik.2025.5.26
Текст научной статьи Государственная политика в школьном книгоиздании в 1990-х – первой половине 2020-х гг.: от «хаоса изобилия» до «единых» учебников отечественной истории
Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin, Yekaterinburg, Russia, 0000-0002-0834-6757
дагоги, но и представители власти. Актуальность проблемы обусловлена аксиоматическим представлением о том, что именно школьные учебники отечественной истории являются важным инструментом исторической политики, под которой «подразумевается моделирование исторического сознания и исторической памяти подданных и манипулирование ими со стороны государства» (Молодяков, 2011: 922). Задача данного исследования – выделить периоды исторической политики государства в эпоху новой России, выявить причины изменения таковой, показать результаты данной политики на примере школьных учебников отечественной истории, изданных в 1990-е – первой половине 2020-х гг.
Источниковой базой исследования стали школьные учебники и пособия по истории, изданные в 1990–2020-х гг., документы Министерства образования / просвещения Российской Федерации, материалы периодической печати («Российская газета», журналы «Родина», «Преподавание истории в школе»), стенограммы публичных выступлений и статьи президента России В.В. Путина, воспоминания автора учебников по истории XIX в. П.Н. Зырянова, интервью директора Института российской истории РАН Ю.А. Петрова.
Методами исследования послужили историко-описательный (в качестве основного), историко-сравнительный и историко-хронологический.
Провозглашенное в Конституции Российской Федерации 1993 г.1 идеологическое многообразие (ст. 13, п. 1) повлекло за собой серьезные изменения в сфере исторического образования в школе. 28 декабря 1994 г. решением коллегии Министерства образования РФ была утверждена Стратегия развития исторического и обществоведческого образования в общеобразовательных учреждениях2. Главными задачами в этих сферах объявлялись: отказ от монополии тоталитарной идеологии в сфере преподавания общественных наук в школе, переход к плюрализму идеологий (рамки его должна была определять Конституция Российской Федерации3 и Всеобщая декларация прав человека4) и обращение к системе ценностей, связанных как с лучшими национальными традициями, так и с общечеловеческой традицией гуманизма как глобального миро-воззрения5. Издательство «Просвещение» потеряло в это время монополию на издание учебной литературы, и рынок наполнился книгами других производителей, среди которых наиболее активными были «Дрофа», «Русское слово», «Вентана-Граф», «Мнемозина», «Владос», «Мирос». Многие выпускаемые ими учебники или учебные пособия по истории с различными авторскими концепциями получили гриф Министерства образования РФ. Желание ученых-историков принять участие в подготовке новых учебников и заинтересованность издательств в их распространении способствовали появлению большого количества учебников истории: в 1999 г. их было уже 686.
Часть этих книг была выпущена за счет средств американского предпринимателя и общественного деятеля Дж. Сороса в рамках программы «Обновление гуманитарного образования в России», реализуемой совместно Министерством образования, Госкомитетом РФ по высшему образованию, Международным фондом «Культурная инициатива» и Международной ассоциацией развития и интеграции образовательных систем. Состоялись три тура конкурса по созданию нового поколения учебников, в которых приняло участие более полутора тысяч авторских кол-лективов7. На реализацию программы Дж. Сорос выделил 30 млн долл. (Бацын, 2024: 84).
По словам профессора исторического факультета МГУ Г.М. Алексеева, треть новых учебников по истории России были написаны по заказу Фонда Сороса8, при этом, по мнению историка, их идеологическая направленность была очевидной – принизить роль России и советского общества в мировой истории1.
Среди «нашумевших» в 1990-е – начале 2000-х гг. изданий были учебные пособия и учебники И.Н. Ионова, А.А. Кредера, А.П. Богданова.
В учебном пособии И.Н. Ионова (1994) подчеркивалась мысль о кризисе российской цивилизации, истоки которого, по мнению автора, лежали в «слабо развитом индивидуализме» русских людей, «авторитарной, безраздельной власти государства», отстраненностью России от передовых достижений европейской цивилизации, «русской традиции потребления хмельного», выборе православия, а не католичества, которое в силу своей справедливости распространено в мире гораздо шире, чем православие; в отсутствии у России «духовного суверенитета», нерациональном типе мышления русских людей, отстранении от Европы после 1917 г., затруднившим вхождение страны в «создающуюся мировую цивилизацию» и т. д.2
Предметом дискуссий стал также учебник А.А. Кредера по новейшей истории (1994), выдержавший несколько изданий, в котором автор давал краткую биографию А. Гитлера, писал об отказе СССР от приоритета международного права в связи с подписанием секретного протокола к договору 23 августа 1939 г., делал вывод о том, что СССР оказался среди стран – «поджигателей войны» и стал «соучастником очередной перекройки карты Восточной Европы», назвал «первым вестником начавшегося перелома» японо-американское морское сражение у атолла Мидуэй в июне 1942 г.3
А.П. Богданов уже во введении к пробному учебнику истории России (1997) подводил учащихся к нескольким выводам: большинство школьников «в такое грязное дело, как политика, и не сунется»; только в сказках государственные деятели руководствуются одними государственными интересами («Величие, богатство и слава державы – это хорошо. Но что со всего этого будет иметь чиновник Н., министр П. или даже президент К?»); потребности власти и народа могут расходиться больше, чем интересы двух враждебных государств; чаще и усерднее народ грабят и притесняют не внешние враги, а собственная власть, да еще под лозунгами «величия державы», «суверенитета», «общей пользы» и «народного блага»4.
Отметим, что не «соросовские» учебники сыграли решающую роль в создании новых образов российского, особенно советского, государства, а прежде всего – общественно-политические и научные дискуссии 1990-х гг., публикация документов из частично открытых архивов, средства массовой информации. Объясняя взрыв интереса ученых к ранее закрытым страницам отечественной истории, доктор исторических наук Ю.С. Борисов писал, что близость обществоведения к политике, возникшая с конца 1920-х гг., превратила его в комментатора политических решений и высказываний политических лидеров, лишила исследовательских функций, что историческая наука должна заняться самореабилитацией5. В определенной мере она происходила и на страницах школьных учебников истории.
В книгах для старшеклассников одной из ключевых стала тема тоталитаризма, признаки которого в Советском Союзе были подробно представлены в учебниках Л.Н. Жаровой и И.А. Мишиной (1992), А.А. Данилова и Л.Г. Косулиной (1995), В.П. Островского и А.И. Уткина (1995) и др. Она доминировала в учебниках до середины 2000-х гг. В учебных изданиях по истории XIX в., авторами которых были П.Н. Зырянов (1994, 1998), А.Н. Сахаров, В.И. Буганов (1995), Л.М. Ляшенко (1998, 1999), Н.И. Павленко, Л.М. Ляшенко, В.А. Твардовская (1997) давались более взвешенные, нежели в советские время, характеристики российских правителей, оценки декабристского восстания, политики Александра III, появились страницы истории Русской православной церкви.
Вместе с тем были и новые «перекосы». Как пишет в своем дневнике П.Н. Зырянов, издательство «Просвещение» всячески подталкивало его к созданию «монархического» учебника, настаивало убрать из него разделы, связанные с освободительным движением XIX в., хотело сделать из него «монархиста»6.
В целом же, можно констатировать, что в 1990-е гг. историческая политика российского государства строилась на определенной свободе мнений и оценок и реализовалась в школьных учебниках истории через более объективно представленную досоветскую историю, призму резкого осуждения сталинского периода советской истории, через новые страницы истории России, преданные ранее забвению.
В 2000-е гг. дискуссии по поводу учебников отечественной истории продолжились. Особый резонанс вызвала книга И.И. Долуцкого по истории XX в., изданная в 2001 г.1, автор которой позволил себе привести высказывание публициста Ю.Г. Буртина о формирующемся режиме личной власти В.В. Путина и мнение лидера партии «Яблоко» Г.А. Явлинского, который полагал, что уже в 2001 г. в России «оформилось полицейское государство». С учебника был снят гриф Министерства образования.
С 2001 г. государственная власть стала проявлять пристальный интерес к учебникам истории. Так, на заседании правительства 30 августа 2001 г. его председатель М.М. Касьянов2 упрекнул их авторов в том, что они до настоящего времени используют термины «рабочий класс», «трудовая интеллигенция», а также новые – «уголовный беспредел», «титульная нация» и чуть ли не призывают к гражданской войне, но при этом через 10 лет после становления нового российского государства ничего не говорят о ценностях демократического общества, о необходимости реформ в экономике и социальной сфере, о том, что сам народ избрал путь рыночных преобразований3.
В ноябре 2003 г. на встрече с учеными в Российской государственной библиотеке президент России В.В. Путин положительно оценил многообразие учебников, отход от однопартийного и моноидеологического освещения истории страны. Он апеллировал к недавней встрече с ветеранами Великой Отечественной войны, критиковавшими историческое образование за недостаточный патриотизм, отметив, что современные учебники становятся «площадкой для новой политической и идеологической борьбы», а они «должны воспитывать, особенно в молодых людях, чувство гордости и за свою отечественную историю, и за свою страну»4. По мнению историков К. Аймермахера и Г. Бордюгова, начало XXI в. совпало с подведением черты под десятилетием разгосударствления исторического образования в России и, по сути, с переходом к государственному заказу (интересу) в сфере исторического образования (Историки читают учебники истории. Традиционные и новые концепции учебной литературы …, 2002: 7).
В 2000-е гг. вышло немалое количество учебников, в числе авторов которых были А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, М.Ю. Брандт, Л.А. Кацва, А.Л. Юрганов, В.А. Шестаков, А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов, С.В. Мироненко, Н.В. Загладин, С.И. Козленко, С.Т. Минаков, Ю.А. Петров, А.О. Чубарьян и др. В это время стали больше говорить о микроистории, цивилизационном, модернизационном и антропологическом подходах, истории повседневности, что нашло отражение в новых изданиях.
В 2007 г. на Всероссийской конференции по актуальным вопросам преподавания новейшей истории и обществознания историки и учителя обсуждали подготовленные авторским коллективом под редакцией А.А. Данилова и А.В. Филиппова книгу для учителя и учебник истории России для 11 класса. Во введении к учебнику авторы сразу же заявляли, что являются «противниками концепции тоталитаризма» как орудия идеологической войны и далее подчеркивали цель своего труда – объективно показать историю советского периода5 . В рамках конференции президент В.В. Путин встретился с группой учителей истории и обществознания, подчеркнув мысль о том, что в настоящее время им в том числе следует понимать «существующую политическую ситуацию»6.
Учителя, преподаватели вузов, ученые, журналисты раскритиковали подготовленные книги за ресталинизацию, антиамериканизм, чрезвычайную политизированность, увидели в новых изданиях стремление авторов переписать историю заново7 (Свешников, 2004). Особые споры разгорелись вокруг понятия «суверенная демократия», введением которого авторы, по сути, пытались доказать, что «наша суверенная демократия», в отличие от западной, должна вращаться вокруг сильной государственной власти. Будучи участником конференции по обсуждению названных книг, мы можем утверждать, что с 2007 г. историческая политика государства была направлена в сторону умеренно консервативного контроля за школьными учебниками отечественной истории, прежде всего – по истории XX и начала XXI в. Движение в эту сторону выра- зилось в идее создания концепции Историко-культурного стандарта, определявшего содержание школьного курса истории, на базе которого должен был создаваться новый учебно-методический комплекс по отечественной истории.
19 февраля 2013 г. на заседании Совета по межнациональным отношениям В.В. Путин вновь вернулся к проблеме школьного учебника и впервые произнес словосочетание «единый учебник», то есть опосредованно сформулировал государственный заказ1. Развивая эту мысль в дальнейшем, он говорил о необходимости создания единой концепции для всей «линейки» учебников, пристального внимания к логике развития истории страны, ее проблемным страницам и достижениям культуры, показа исторического прошлого с разных точек зрения, использования при написании учебных книг хорошего русского языка2.
Разгоревшиеся споры вокруг «единых учебников» разделили участников дискуссии на две группы. Первая поддерживала проект создания таковых, объясняя это тем, что обилие некачественных и спорных по содержанию учебников истории мешает гражданской и национальной идентификации обучающихся. Председатель Российского исторического общества С.Е. Нарышкин высказал мнение, что в течение многих лет учебники истории были заложниками сиюминутной конъюнктуры, и новый учебник позволит разорвать порочный круг, где наука и политика держали не только друг друга, но и все наше общество в тисках идейных разночтений, недомолвок и замалчиваний. Директор Института всеобщей истории академик А.О. Чубарьян считал единые учебники шансом «достижения консенсуса в представлении исторического прошлого в образовательном процессе» и отмечал, что детям приходится трудно, когда на параллельных курсах по отечественной истории XX века и мировой новейшей истории им предлагают разные оценки3. Е.Е. Вяземский утверждал, что введение единого учебника истории будет способствовать процессу формирования гражданской нации (Вяземский, 2013). Профессор Рурского университета (Германия) К. Вашик писал, что потребность в связанном историческом сознании в российском обществе постсоветской эпохи очевидна и закономерна4. Существовали и аргументы организационного порядка. В частности, Е.Е. Вяземский озвучивал понятную для учителей позицию: в условиях подготовки к ЕГЭ вариативные учебники создают проблемы для педагогов и учащихся, а единый учебник станет основой для разработки заданий для государственного экзамена (Вяземский, 2013). По мнению министра культуры В.Р. Мединского, школа и общество ранее находились от зависимости «от интересов многочисленных издательств, для которых поток разнообразной учебной литературы не признак свободомыслия, а производное от лоббирования собственных деловых выгод»5.
Иное мнение в отношении единых учебников истории высказала другая группа дискутировавших. И.И. Курилла аргументировал свою позицию тем, что невозможно построить российскую «гражданскую нацию» на прошлом, так как единственным объединяющим народ событием является Великая Отечественная война. Он же писал, что «единый учебник» лишает учителя возможности быть важнейшим участником образовательного процесса, чье мнение и оценки олицетворяют ту науку, которую он преподает. Даже «двадцать лучших историков» не смогут создать учебник, который не будет источником общественного конфликта6. Б.В. Личман утверждал, что «единый» и «объективный» учебник создать невозможно, ибо в нем без объяснения всегда будет «спрятан» один из мировоззренческих подходов; плюралистического, суммированного мировоззрения у людей с разными ценностными ориентирами не существовало и не существует, а разные идеологические концепции со своими жизненными ценностями всегда по-разному объясняли и будут объяснять ход истории страны (Личман, 2014).
Вместе с тем, по мнению А.О. Чубарьяна, в 2013 г. необходимость единого учебника уже практически не ставилась под сомнение, всех интересовало его содержание, структура, формы подачи материала, в особенности трудных вопросов отечественной истории7. В результате многочисленных дискуссий было принято решение разработать Историко-культурный стандарт
(ИКС)1, на который могли бы ориентироваться авторы учебников. Его разработчиками стали ученые-историки Российской академии наук (Институт всеобщей истории, Институт российской истории), а также Российское историческое общество и Российское военно-историческое общество. Возглавил эту работу академик РАН, директор Института всеобщей истории, доктор исторических наук А.О. Чубарьян, из выступлений которого следовало, что никто не собирался переписывать историю страны, замалчивать постыдные страницы, унифицировать оценки тех или иных событий, личностей2. 30 октября 2013 г. Историко-культурный стандарт по истории России был утвержден Советом Российского исторического общества3 (одобрен коллегией министерства просвещения РФ только 23 октября 2020 г.). Авторы Историко-культурного стандарта рассматривали историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса, как совокупность усилий множества поколений россиян, а историю русской культуры – как непрерывный процесс обретения национальной идентичности. Кроме того, перед авторами школьных учебников была поставлена задача не допустить возможность возникновения внутренних противоречий и взаимоисключающих трактовок исторических событий, в том числе имеющих существенное значение для отдельных регионов России4.
Актуальность учебников истории еще более возросла после майдана 2014 г. на Украине. По словам председателя РИО С.Е. Нарышкина, спорные моменты истории все активнее стали использоваться для манипуляции общественным мнением: началась «война интерпретаций, бесплодная и разрушительная борьба с собственным прошлым». По его мнению, не только ветеранские организации, но и историки разных стран, не говоря уже о политиках, претендующих на статус ответственных, обязаны жестко реагировать на проекты сноса памятников и переименования улиц5.
В 2015/16 учебном году в школы поступили учебники, подготовленные на основе Историкокультурного стандарта. Министр культуры В.Р. Мединский назвал это важным шагом «к преодолению унаследованной из 90-х годов нелепой интеллектуальной междоусобицы, бессмысленного “разнообразия” точек зрения на историю страны и навязчивых идеологизированных толкований главных ее событий»6. Три линейки учебников представили ведущие издательства на рынке учебной литературы. Авторами книг для старшеклассников, изучавших историю с 1914 г. до начала XXI в., стали О.В. Волобуев, С.П. Карпачёв, П.Н. Романов («Дрофа»), М.М. Горинов, А.А. Данилов, М.Ю. Моруков, И.С. Семененко, А.Я. Токарева, В.Н. Хаустов, О.В. Хлевнюк, В.А. Шестаков («Просвещение», под редакцией А.В. Торкунова), В.А. Никонов, С.В. Девятов («Русское слово – учебник», под редакцией С.П. Карпова). Важно отметить, что с 2014 г. рецензентами учебников стали выступать не отдельные специалисты, а научные учреждения и общественные организации, включая Российскую академию образования и Российское историческое общество. По словам директора Института российской истории Ю.А. Петрова, «власть очень мудро поступает, когда запрашивает у ученого сообщества экспертизу, но при этом не заказывает ее результаты»7.
Мнение педагогов об этих учебниках было представлено в апреле 2016 г. на Всероссийском съезде учителей истории8. Нами также было сделано сообщение на тему «Современные учебники истории России и Историко-культурный стандарт: итоги реализации государственнообщественного заказа». Выводы практикующего педагога были таковы: во всех изданиях присутствует более объективное изложение отдельных сюжетов отечественной истории, нежели в прежних учебниках; все три комплекта представленных учебных книг имеют право на существование, но требуют существенной доработки, так как содержание их значительно усложнилось за счет фактологии, причинно-следственные связи во многих случаях остались «за кадром», «трудные вопросы» остались трудными, в тексте встречались фактологические ошибки, требовали уточнения многие исторические понятия и термины.
23 октября 2020 г. Министерством просвещения РФ была утверждена Концепция преподавания учебного курса «История России» в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, направленная на повышение качества школьного исторического образования, воспитание гражданственности и патриотизма, развитие познавательных и социально-значимых компетентностей учащихся1. 19 декабря 2023 г. в Федеральный закон № 618–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» была внесена поправка о том, что образование в России должно соответствовать традиционным российским духовно-нравственным ценностям и ориентироваться на задачи развития государства и общества2.
В 2021 г. небольшими тиражами были изданы учебники истории России для 5–9 классов (авторы: Т.В. Черникова, К.П. Чиликин – 6 класс; Т.В. Черникова, Р.В. Пазин – 7 класс; Т.В. Черникова, С.В. Агафонов – 8 класс; Я.В. Вишняков, Н.А. Могилевский, С.В. Агафонов – 9 класс). Они прошли апробацию более чем в 300 школах страны во всех федеральных округах, получили более 99 % положительных оценок и в ноябре 2024 г. решением Научно-методического совета по учебникам Министерства просвещения были включены в Федеральный перечень учебников3. Особых дискуссий эти учебники не вызвали.
В 2023/24 учебном году в школы поступили учебники по истории России для 10–11 классов (1914 – начало XXI в.) под редакцией В.Р. Мединского и А.В. Торкунова (издательство «Просве-щение»)4, призванные способствовать «формированию единого образовательного пространства, повышению качества обучения и укреплению российских духовно-нравственных ценно-стей»5. Научный директор РВИО М.Ю. Мягков в качестве достоинств учебника отметил яркий и доступный язык, синхронизацию отечественной истории со всемирной, объективность в показе роли И.В. Сталина в истории страны, особенно в годы Великой Отечественной войны, актуальность разделов о причинах и героях специальной военной операции (СВО)6.
Как пишет историк Ю.А. Борисёнок, эта учебная книга «сохраняет лучшее» из трех существовавших «линеек» учебников, при этом «старый текст меняется на 50–70 %», а новации осознанно касаются личностной, биографической информации, а также истории повседневности7.
Профессор кафедры государственной политики факультета политологии МГУ В.Э. Багдасарян в качестве минуса учебников назвал отсутствие в них «внятной» методологии, а также обратил внимание на множество фактологических ошибок, не соглашаясь с объединением Февральской и Октябрьской революций в единое целое, мнением о невиновности всех репрессированных, с выводом о том, что голод 1932–1933 гг. был следствием политики большевиков. В качестве достоинств издания он отметил то, что его авторы не отнеслись толерантно «ко злу», показав конфликт с коллективным Западом, а также не так сильно, как раньше, «демонизировали советский опыт»8.
Секретарь ЦК КПРФ по агитации и пропаганде С.Э. Аниховский сделал вывод о том, что чтение учебника В.Р. Мединского и А.В. Торкунова чревато тем, что школьники могут начать воспринимать историю как субъективное описание событий, а не как «науку со строгим понятийным аппаратом», посчитал неуместным превращать текст об СВО в рекламный буклет9.
Доктор исторических наук Е.Ю. Спицын, имевший 20-летний опыт работы в школе, так же, как и В.Э. Багдасарян, отметил наличие в учебнике «методологической мешанины», обратил внимание на «неряшливость» в изложении некоторых фактов и отметил «много болтовни»10.
Интерес к учебнику для 10 класса1 был вызван в том числе реакцией главы Чечни Р.А. Кадырова на строки учебника о депортации карачаевцев, калмыков, чеченцев, ингушей, балкарцев, крымских татар на основании фактов сотрудничества с оккупантами в годы Великой Отечественной войны2. Во втором издании учебника материал о депортации был дополнен и вынесен в отдельный подраздел. Депортация названа трагической страницей в истории войны, во время которой 12 народов (конкретно не названных), «огульно обвиненных в предательстве», подверглись насильственному переселению, «лишились не только родной земли, но и национально-территориальных автономий, имевшихся у большинства из них». Далее в учебнике рассказывается, что тысячи человек были высланы под конвоем в Сибирь и Среднюю Азию, что вместе «с отдельными отщепенцами и предателями» пострадало много «безвинных и лояльных советской власти людей», в том числе и воевавших на фронте3.
Особенно значимы, на наш взгляд, в учебниках для 10 и 11 классов разделы, посвященные Великой Отечественной войне и специальной военной операции4, в содержании которых можно видеть отголосок или цитирование публичных выступлений и статей на исторические темы президента России В.В. Путина5.
По мнению помощника президента РФ и автора учебника В.Р. Мединского, большая часть критиков недовольна тем, что сейчас происходит в стране. Он заметил, что для «либералов-релокантов недостаточно поругали Ленина-Сталина, недостаточно похвалили Горбачева и Гайдара». Другая часть критиков возмущена тем, что «недостаточно отругали Горбачева и Ельцина, мало похвалили Сталина». В.Р. Мединский считает, что это говорит о том, что учебник получился взвешенным и объективным: «Критикуют… за то, чего в учебнике нет. Нет нужных им подач и оценок». Комментируя обвинения в том, что учебник выглядит пропагандистским, а не историческим, автор отметил, что государственный учебник истории знакомит школьников с официальной позицией российской исторической науки6. В Федеральном перечне учебников на 2024/25 уч. год зафиксировано, что учебники под редакцией В.Р. Мединского и А.В. Торкунова для 6–11 классов, в отличие от других, имеющих срок ограничения в использовании, входят в образовательный процесс «бессрочно»7.
Таким образом, можно констатировать, что в актуальных для новой России дискуссиях о «едином» школьном учебнике отечественной истории, начавшихся в начале 2000-х гг., к середине 2020-х гг. поставлена точка. Это означает, что до конца 2020-х гг. должны уйти из обращения другие учебники отечественной истории, включенные в настоящее время в Федеральный перечень учебников8.
Подводя итоги нашего исследования, можно сделать вывод о том, что историческая политика государства в отношении школьных учебников отечественной истории в течение 1990–2020-х гг. прошла несколько этапов в своем развитии: в 1990-е гг. в ее основе лежали идеи деидеологизации, вариативности, выразившиеся в свободе мнений и оценок авторов, что привело, по мнению власти, к снижению уровня патриотичности учебных изданий; в 2000-е гг. обозначился поиск идеи учебника истории XX – начала XXI в., соответствующего представлению о противоречивости и одновременно оправданности действий власти в сталинский период истории и два первых периода президентства В.В. Путина; в 2010-е – первой половине 2020-х гг. вырабатывалась концепция новых учебников отечественной истории, завершившаяся принятием Историко-культурного стандарта, ставшего ориентиром для ученых, и подготовкой комплекта «единых» учебников истории, авторы которых стремились избежать «разночтений, недомолвок и замалчиваний». В настоящее время учителя истории только приступили к работе по этим учебникам.
Главной причиной изменений государственной политики в отношении школьных учебников истории можно считать трансформацию российского государства от либерально-демократической модели и взгляда на историю через призму человеческих судеб к модели государства, построенного на основе общественно-государственного интереса, к представлению об истории государства как истории государственности и характерного для власти отношения к школьным учебникам истории как инструменту гражданско-патриотического воспитания.