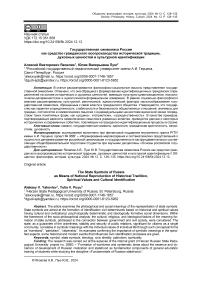Государственная символика России как средство гражданского воспроизводства исторической традиции, духовных ценностей и культурной идентификации
Автор: Яковлев Алексей Викторович, Пую Юлия Валерьевна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 12, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются философско-социальные смыслы представления государственной символики. Отмечено, что она обращена к формированию идентификационных гражданских определителей на основе исторических и духовных ценностей, имеющих культурно-цивилизационное, психологически-детерминистское и идеологически-формационное измерения. В рамках социально-философского анализа рассматривались культурный, религиозный, идеологический факторы смыслообразования государственной символики, обращенные к связи власти и гражданского общества. Утверждается, что государство как гарантия упорядоченности, стабильности и безопасности общественных отношений, значимых для граждан, соотносится в символических смыслах с индивидуальными ценностями единичной жизни посредством таких понятийных форм, как «родина», «патриотизм», «гражданственность». В качестве примеров, подтверждающих важность символических смыслов в указанных аспектах, приводятся данные о некоторых исторических и современных событиях, повлиявших на гражданско-идентификационные процессы в стране.
Символ, государственные символы, идеология, гражданская идентичность, патриотизм, духовность
Короткий адрес: https://sciup.org/149147073
IDR: 149147073 | УДК: 172.15:351.858 | DOI: 10.24158/fik.2024.12.13
Текст научной статьи Государственная символика России как средство гражданского воспроизводства исторической традиции, духовных ценностей и культурной идентификации
,
,
1,2Herzen State Pedagogical University of Russia, St. Petersburg, Russia , ,
Значение символического в культурогенезисе имеет как антропологическое, так и социологическое измерение. Соответственно, можно говорить о таких соответствующих методологических основаниях социально-философского исследования значения символа со стороны философско-антропологического подхода, акцентирующегося на индивидуальных значениях и смыслах, приобретающих в ходе культурной истории общечеловеческое значение, и со стороны первично социального измерения символического смыслопорождения, индивидуация которого имеет вторичный характер, в формах установившейся традиции, характерной для определенных обществ. Но в обеих методологических перспективах символическое является одной из основных форм гносеологического, познавательного процесса, позволяющего говорить о культурных различиях и сближениях в отношении как отдельной личности, так и отдельных сообществ. Данную «двойную перспективу» символического можно обнаружить в генезисе, смысловом наполнении и социокультурном значении такого явления, как государственная символика.
В европейской философской мысли первое измерение собственно символического нашло яркое отражение у И. Канта и романтиков, обративших внимание на смыслопорождающую функцию символа, который помогает согласовать различные формы человеческого опыта и в первую очередь – фактическую смертность человека и его способность мыслить вневременно и бесконечно. Свойственным романтикам «антропологический» взгляд на культуру вел к индивидуализации человеческого бытия и подчеркивал свободу личности в противоположность унификации индивидуального в социальной жизни (Кант, 1966).
Согласно концепции Э. Кассирера, символическое также является структурирующим элементом индивидуального человеческого опыта (Кассирер, 1998: 150), и, как отмечает Э. Спирова, хотя этот опыт реализуется в пространстве социального, именно индивидуальному или простому наличному бытию человеческого посредством символизации придается «идеальное содержание» (Спирова, 2006: 181). Логика символического демонстрирует принципиальную антропологичность символического процесса, однако онтология символа, реальное бытие, которое «идеально» отражает символ, находится вне человеческой индивидуальности, по выражению Х.-Г. Гадамера, в стремлении воссоединения «осколков бытия» (Гадамер, 1991: 127).
Социально-философская традиция признает развитие общественной функции символа через мифологическую и религиозную символику к социальной и политической. Так, Т. Парсонс утверждал символическое как форму общественного взаимодействия и межличностной коммуникации и указывал, что «когда возникает такая коммуникативная символическая система, мы можем говорить о началах культуры, становящейся частью системы действия» (Parsons, 1951: 5). Способность человека к символическому абстрагированию, к переносу смысла от его природного агента к знаковому составляет необходимый элемент собственно разумного, человеческого по содержанию взаимоотношения с природным и социальным окружением.
Примером осмысления социально-политической функции символа является эпистемологический проект М. Фуко, который утверждал, что власть символична, поскольку ее внутренняя эволюция символизирует изменение социальных практик и в перспективе – смену исторических эпистем. Как писал ученый, требуется «заменить историю господства историческим анализом процедур управления, теорию субъекта – историей субъективности» (Фуко, 2011: 17).
В логике М. Фуко власть не является «идеализированным субъектом», характеризуясь субъективностью, самосохраняя себя и реализуя это самосохранение социальные практики в символических формах знаков и языка (текста). Власть посредством символического «вписывания» отдельного человека в структуру общности обеспечивает любому признающему ее подвластному конкретную причастность к социальному «организму», имеющему историю, если не бесконечную, то долгую, событийно насыщенную и морально возвышенную.
Взаимоотношение с миром реализуется через символику отношений человека, власти и социума, в котором изначальная трагедия смертности индивида нивелируется «долгой» жизнью общества. Символ как транслируемый в неизменяемом виде элемент коллективной социальной памяти оказывается необходимым идентификатором общественного единства в простой и понятной для каждого форме.
О.А. Кармадонов говорит о травматической основе культурной символизации, считая, что исходным моментом этой травмы оказывается страх смерти перед лицом враждебной природной реальности (Кармадонов, 2004: 208). При этом иной социум с его чуждой, непонятной культурной символизацией чаще всего подвергается расчеловечиванию, оказываясь в ряду враждебных внешних сил, аналогичных по своему негативному действию природным угрозам.
Можно видеть, что политическая символика обращена как к прошлому, так и к будущему социума, а конкретная форма политического символа объективирует это двойное обращение в понятных для членов общества смыслах. Преодолевая травму индивидуальной смертности в двух временных направлениях, социальная символика становится процессуальной. Как уже говорилось, такого рода «символы и значения следует рассматривать не только как объекты, но и как процессы, организующиеся и изменяющиеся через собственное явление и становление» (Коновалов и др., 2023: 3).
Символ в его социальном значении имеет уникальное историческое измерение развития, поскольку его знаки, оставаясь формально неизменными, обладают свойством смыслового приращения в ходе эволюции событийного общественного процесса. Значимые для социума явления наделяют символы новыми прогрессивными или регрессивными значениями, позволяя им сохранять свою основную цель преодоления индивидуальной конечности.
Многозначность и «многосмысленность» социально-политического символа, безусловно, делает его в ходе исторического пути социума все более абстрактным, а присущие ему значения и смыслы перестают быть интуитивно понятными, хотя изначально символ возникает именно в этом качестве. Чтобы абстракции сохраняли свою действенность, социальная символика формирует знаковые структуры и системы, посредством которых общность «преодоления разобщенных индивидуальностей обретает форму и действительность» (Демидова, 2013). Можно говорить о знаковой рационализации системы государственных символов, обеспечивающей сохранение целостной общегражданской идентификации индивида в сложном устроении современного государства.
К таким структурированным символическим формам, образующим разные стороны человеческой культуры, возвышающей индивида над его физической смертностью, относятся: язык, миф, религия, наука, искусство. Однако онтологической основой символического являются формы общественной организации, а символика социального включается во все остальные культуросозидательные явления.
Государство на сегодняшний день является исторической вершиной организации человеческого социума, и символика, связанная с этим, наиболее показательна в историческом масштабе человеческой цивилизации. Неслучайно К.Г. Юнг указывал на связь между ее политической и религиозной разновидностями: «Вызывавшие некогда трепет боги не исчезли, они лишь изменили имена: теперь они рифмуются на “изм”» (Юнг, 1997: 116–117).
Однако политический контекст национальной символики не является основным, более того, все чаще государство как социальное целое противопоставляется политической системе как фактору социального разделения. По своему смыслу и символическому наполнению оно выше любой политической организации, в то время как последняя необходимо действует в определенном, «этом» государстве и часто использует его символику в более узких целях, приспосабливая к смыслам своей деятельности.
Единство обеих форм символики реализуется в конкретике властных отношений, когда политический лидер и партия становятся во главе государства, причем если говорить о символике, то социальные смыслы последнего, безусловно, поддерживают реальную власть в исполнении ею своих функций, но власть в свою очередь может лишь рассчитывать на то, что ее символы станут государственными в перспективе исторического пути страны. Как отмечают Л.К. Нагорная и И.В. Чепашева, «захват власти может сопровождаться демонстративным присвоением признанных государственных и национальных символов власти либо их радикальным отрицанием и утверждением иной (новой, воскрешенной) системы символов» (Нагорная, Чепашева, 2006: 16).
Недавняя история российского государства чрезвычайно показательна в этом смысле, поскольку демонстрирует диалектические (и противоречивые) отношения власти и государства, в том числе и в контексте символизации. Как отмечает отечественная исследовательница Н.А. Соболева, «до недавнего времени в историографии существовали самые общие сведения о … символике России, начиная с зарождения отечественной государственности. Этот феномен, возможно, объясняется прерывистым характером русской истории, не дающим возможности нарисовать реальную картину эволюции и использования носителями власти атрибутов этой власти, проанализировать их символику, определить степень традиционности, исконности и заимствований» (Соболева, 2011).
Современная Россия прошла в ХХ в. два пути политической символизации – советский и постсоветский, притом что исторический государственный процесс не был разорван. Такие вне-политические символы, как «Родина», «Отечество» сохранили и свое политическое значение, и свои регулятивные, коммуникативные и демонстративные функции. Символизм государственной военной истории и культурная символика российского государства также не испытали того радикального разрыва, какой произошел в области символизации политической власти. И в этом смысле концепты патриотизма и гражданственности были и остаются в символическом самоопределении российскости преобладающими над любыми формами устройства страны.
Можно сказать, что смена политических символов не стала для России разрывом истории государства, а историческая символическая государственная система показала свою устойчивость и консолидирующую действенность. Наибольшую стабильность имеют социально обусловленные государственные символы, в первую очередь, связанные с официальной системой праздников. Последние как образ преодоления негативных экзистенциальных явлений, как возвращение в бесконфликтную и эмоционально позитивную социальность, поддерживаемую всей государственной машиной с ее символическим наполнением, менее всего оказываются зависимыми от политических целей, сохраняя реальную, а не декларативную общность индивидов. Как отмечает В.А. Парамонова, «формирование государственной системы символов, праздничной модели и сопутствующей ей ритуалов, единых социальных институтов и т. п. обеспечивает консолидацию в обществе» (Парамонова, 2012).
Здесь следует отметить, что особенностью российского государственного символизма является его наднациональный, надэтнический характер, вследствие чего как дореволюционные имперские государственные символы, так и советские интернационалистские во многом оказались совместимыми, образовав характерный комплекс гражданственности. Эта особенность, отличающая российское государство и его символику, не была навязана извне или политически, но вполне отвечает его самоидентификационным качествам. Соответственно, она вполне органично отражена в государственной символике. При этом если новый российский гимн представляет собой не сильно перелицованный советский вариант с его «многоголосием народов», то в гербе, который в целом повторяет имперский образец, «двуглавость» орла вполне символизирует «объединение разнородного», то есть также отвечает интегративному в этническом отношении характеру российского населения. Триколор же российского флага представляется органичной цветовой гаммой, естественно объединяющей геральдические интерпретации цветов в ключе императивных установок на духовность, традицию и онтологическую преемственность.
Неслучайно в российском обществе чрезвычайно болезненно воспринимаются обвинения государства в колониальной политике, часто звучащие из уст политиков бывших советских республик, получивших независимость после распада СССР. Эти обвинения, с помощью которых политики новообразованных государств пытаются утвердить свою идентичность, выстраивая в том числе и символическую систему, видятся внутри российского общества угрозой, требующей ответа и противодействия, в первую очередь, со стороны государства.
В свою очередь властные структуры расценивают такие высказывания как нарушение исторической справедливости и угрозу суверенитету, поскольку они нацелены на лишение российского государства морально оправданной и выстраданной исторической преемственности. В 2015 г. президент Российской Федерации В.В. Путин отмечал, что патриотические чувства исторической справедливости в российской ментальности «настолько глубоки и сильны, что никому никогда не удавалось и никогда не удастся перекодировать Россию, перевести ее в свои форматы»1.
Военная история нашей страны, входящая в символическое пространство государственности, традиционно играла чрезвычайно значимую роль и в старый имперский период, и в социалистический советский. Неслучайно именно военный патриотизм является основой идеологического воздействия как для сторонников советского пространства символического, так и для более раннего государственного символизма, включая трагичный противоречивый период «красно-белого» гражданского противостояния. Как отмечает Л.Г. Ларкин, «военная культура как неотделимый аспект культуры социума трансцендентировалась в символическую сферу, узнаваемую и почитаемую» (Ларкин, 2014: 27).
Защита Отечества воспринимается одинаково позитивно всеми участниками российского социального процесса, являясь сильнейшим идентификационным символом-маркером, как политическим, так и культурно-социальным. Также и государственная власть своей символической манифестацией обязуется способствовать защите своих граждан, которые в свою очередь репрезентируют ей свою готовность защищать Родину даже ценой своей жизни.
Значимость символических форм явственно показали события, связанные с зарождением и развитием украинского кризиса, приведшего к раскручиванию маховика насилия и невозможности разрешения ситуации «терапевтическими» политическими методами. В 2014 г. прозападная властная группировка на Украине попыталась уничтожить и заменить прежде актуальные исторические символы путем «борьбы с памятными знаками», указывающими на историческое единство и преемственность страны с Россией (так называемый «Ленинопад», в дальнейшем превратившийся в уничтожение признанных мировых культурных символов России – памятников, созданных в честь государственных деятелей, поэтов, писателей, ученых, защитников страны и народа в периоды иностранной агрессии).
Как замена всего перечисленного в украинском обществе массово репрезентировалась государственная и военная символика фашистской Германии и ее украинских приспешников. Однако, во-первых, это свидетельствовало об отсутствии автономного и суверенного самосознания и несамостоятельности собственно украинской самоидентификации, а во-вторых, такие действия украинских властей для российского общества представлялись идентификатором экзистенциальной угрозы, выводящей народную память на возможность повторения трагедии Второй мировой и Великой Отечественной войн. По сути, помимо геополитических, геоэкономических и культурно-гуманитарных смыслов, можно говорить также о глубоком символизме нынешнего конфликта.
Другой угрозой для российского общества в его абстрактном единстве с властной системой является защита традиционных социальных форм, семейственности, гендерных, экономико-трудовых проявлений. Государственная символика, включающая традиционные праздники, историкокультурные образцы искусства и науки, отвечает запросам общества на стабильность, безопасность, преемственность и конкурентные преимущества в построении будущего, а для российской политической власти она показывает преемственность и фиксирует границы возможных изменений социальной традиционности в рамках технологических и геополитических трансформаций.
В значительной степени российская государственность получила негативный опыт игнорирования и даже высмеивания национальной символики в советский период. Глобальная популяризация «смердяковщины», бурным потоком обрушившейся на граждан позднего СССР через все возможные каналы трансляции массовой культуры, подспудное импринтирование в общественные поведенческие модели заискивания и преклонения перед западной культурой фактически на всех уровнях общества продемонстрировали неспособность государственной власти политическими мероприятиями сохранить культурные символические смыслы. Как отмечают Л.К. Нагорная и И.В. Чепашева, «вариации отношения населения к государственной символике как к концентрированному выражению духа страны и ее элиты являются той “лакмусовой бумажкой”, которая показывает степень поддержки существующего строя, эффективности той или иной идеологии» (Нагорная, Чепашева, 2006: 18).
Вакуум внимания к гражданскому воспитанию молодежи, размытость содержания понятий «патриотизм» и «гражданственность» в эпоху распада СССР и становления постсоветской российской государственности происходил на фоне невнятной государственной символической выраженности (например, в отсутствие слов к гимну), забвении духовности, традиций и выставлении в качестве аксиологических доминант абстрактных «общечеловеческих ценностей».
Закономерным откликом на подобное положение в 1990-е гг. стал небывалый подъём криминала во всех сферах общества, включая властную, падение общественной морали и нравственности, обнуление стоимости человеческой жизни и, как следствие, снижение рождаемости, возникновение маргинальных политических организаций (партий и движений, основанных на радикальных формах идеологии – религиозном фундаментализме и сектантстве, неонацистских ценностях и т. д.). Потребовалось время и сильная воля руководителей страны, чтобы начать постепенный перелом этих разрушительных для государства тенденций.
Одним из серьезных показателей кризиса российской государственности стало повсеместное использование государственной символики других стран в средствах массовой информации и культуры, а также в обыденной жизни российских граждан. Идеологическое давление посредством замены символики является одним из значимых практических действий в рамках продвижения «мягкой силы», на реализацию которой западные общества тратят значительные материальные ресурсы. Как отмечает О.А. Старицына, «мягкая сила» в международной деятельности проявляет себя как скрытая экспансия западного и в первую очередь американского образа жизни, ценностей, мировосприятия, кардинально отличающихся от русского» (Старицына, 2017: 353).
С первых лет нового тысячелетия государственная идеология России отошла от негативных оценочных установок периода перестройки и распада Советского Союза, начав поиск путей социальной модернизации не по иллюзорным образцам западного общества, а исходя из признания уникальности российского исторического пути согласно традиционным и укорененным смыслам в символике индивидуального отражения социокультурного кода России. В.В. Путин отмечал, что «основой консолидации российского общества является то, что можно назвать древними, традиционными ценностями россиян», подчеркивал значимость позитивного отношения к понятию «Родина» и ее символическому отражению в культуре и индивидуальном сознании: «Это слово... сохранило для большинства русских свое первоначальное, вполне положительное значение. Это чувство гордости за свою Родину, ее историю и достижения. Это стремление сделать нашу страну лучше, богаче, сильнее, счастливее… В этом – источник мужества, стойкости и силы народа. Потеряв патриотизм..., мы потеряем себя как народ, способный на великие свершения»1.
Процесс возвращения Россией своего «символического Я» вызвал резкое противодействие международных сил, рассчитывавших продолжить поддерживать процесс распада и выкачивания из нашего государства материальных, людских и духовных ресурсов. Можно видеть, что сама государственная символика Российской Федерации вызывала идиосинкразию у монополизировавших всю систему международных отношений глобалистов. Ярким примером этого стали запреты на использование российских государственных символов в спорте на уровне международных соревнований.
Постепенное отрезвление и осознание реальности международных отношений, характеризующейся отсутствием самой возможности нахождения компромиссных решений во взаимоотношениях с Западом, заставили российскую власть и все общество признать необходимость возврата к позитивному отношению к традиционным ценностям, основанным на актуализации символического значения ранее критиковавшегося и отвергаемого идеологического направления государственной политики, ее связи с принятием и реализацией патриотизма как необходимой социоиндивидуальной установки. Как отмечал президент Российской Федерации, «патриотизм и сплочённость граждан, общие нравственные идеалы и сегодня объединяют наше общество, нашу огромную, многонациональную, многоконфессиональную страну»1.
Ряд трагических событий, развернувшихся на территории бывшего СССР в десятилетия, последовавшие за его распадом, закрепили в российском самосознании важность и востребованность государственной символики, основанной на патриотическом восприятии исторических традиций и стремление её оберегать и защищать как именно знаково-символическое воплощение базовых ценностей страны-цивилизации. «Русское национальное сознание, – отмечает В.К. Левашов, – на протяжении многих веков формировалось в условиях сменяющих друг друга военных побед и поражений… Периодическое прохождение общества и государства через кризисы и катастрофы … сформировало и составило сущностное своеобразие великой русской культуры, привело к закалке русского духа: памяти, ценностных ориентаций, веры, воли и знаний к достижению целей» (Левашов, 2006: 67).
Именно по мере возрастания внутренней стабилизации и усиления внешнеполитического влияния России возрождается и чёткость в способности власти и общества к символическому отображению государственной самости. И, как сказал при вступлении в должность Президента России 07 мая 2012 г. В.В. Путин, «мы обязательно добьёмся успеха, если будем опираться на прочный фундамент культурных и духовных традиций нашего многонационального народа, на нашу тысячелетнюю историю, на те ценности, которые всегда составляли нравственную основу нашей жизни, если каждый из нас будет жить по совести, с верой и любовью к Родине…»2.
Государственная символика, таким образом, выступает обобщенной формой утверждения взаимного признания и ответственности власти и каждого члена общества, реализующей всеобщие витальные (можно сказать, экзистенциальные) ценности, культурно и исторически обусловленные формы социальной организации как государственного целого.
Важной чертой официальной государственной символики является ее рациональность, с одной стороны, обуславливающая ясность и четкость любой интерпретации символического сообщения, а с другой – позволяющая посредством принятия простых социальных форм обеспечивать позитивную идентификацию гражданина со всем комплексом символических смыслов исторически сложившейся государственной традиции.
Возврат российского общества к позитивному восприятию и трансляции исторических форм символической репрезентации национальной идентичности и государственного признания является показателем стабилизации внутреннего социального бытия и способом отстаивания суверенитета и культурного самоуважения на современной глобальной арене, где активно происходят процессы деконструкции однополярного мира и выстраивания новой парадигмы международных отношений, основанной на признании равенства цивилизаций и культур, а не на имплементации сверхабстрактных одномерных максим «общечеловеческих ценностей».
Список литературы Государственная символика России как средство гражданского воспроизводства исторической традиции, духовных ценностей и культурной идентификации
- Гадамер Г. Актуальность прекрасного. М., 1991. 366 с.
- Демидова М.В. Понятие «символ»: социально-философский подход // Актуальные вопросы общественных наук: социология, политология, философия, история. 2013. № 25. С. 23-30.
- Кант И. Критика способности суждения // Сочинения: в 6 т. М., 1966. Т. 5. С. 161-529.
- Кармадонов О.А. Социология символа. М., 2004. 347 с.
- Кассирер Э. Опыт о человеке. Введение в философию человеческой культуры. М., 1998. 779 с.
- Коновалов А.А., Баклагин Д.У., Миронов С.И. Символы в политической дискурсивной практике: опыт деконструкции // Международный научно-исследовательский журнал. 2023. № 8 (134). С. 1-3. https://doi.org/10.23670/IRJ.2023.134.138.
- Ларкин Л.Г. Символика военной культуры в социуме // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2014. № 9 (137). С. 27-31.
- Левашов В.К. Патриотизм в контексте современных социально-политических реалий // Социологические исследования. 2006. № 8 (268). С. 67-76.
- Нагорная Л.К., Чепашева И.В. Политический символ в системе общественных отношений // Ползуновский вестник. 2006. № 3-1. С. 15-18.
- Парамонова В.А. Старые и новые символы в формировании гражданской идентичности в современной России // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия: Философия. Культурология. Политология. Социология. 2012. Т. 24 (65), № 1-2. С. 291-296.
- Соболева Н.А. Российская государственная символика в контексте проблем реконструкции национальной идентичности // Исторический журнал: научные исследования. 2011. № 4. С. 32-41.
- Спирова Э. Символ как ключ к пониманию // Знание. Понимание. Умение. 2006. № 3. С. 181-184.
- Старицына О.А. Государственная символика США и Великобритании в повседневной жизни россиян как признак потери идентичности нации // Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2017. Т. 6, № 1 (18). С. 352-355.
- Фуко М. Управление собой и другими. СПб., 2011. 432 с. Юнг К.Г. Человек и его символы. СПб., 1997. 367 с. Parsons T. The Social System. L., 1951. 575 p.