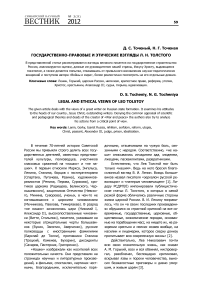Государственно-правовые и этические взгляды Л. Н. Толстого
Автор: Точеный Дмитрий Степанович, Точеная Наталья Григорьевна
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: История и историография
Статья в выпуске: 3 (9), 2012 года.
Бесплатный доступ
В представленной статье рассматриваются взгляды великого писателя на государственное строительство России, анализируются оценки, данные им руководителям нашей страны, Иисусу Христу, выдающимся писателям, а также делается попытка, отказавшись от привычного восхваления научно-педагогических воззрений и поступков автора «Войны и мира», более реалистично посмотреть на его отдельные деяния.
Ленин, горький, царская Россия, нигилизм, крепостное право, реформа, утопия, христос, крестьянин, александр iii, судья, тюрьма, идеализация
Короткий адрес: https://sciup.org/14113710
IDR: 14113710
Текст научной статьи Государственно-правовые и этические взгляды Л. Н. Толстого
В течение 70-летней истории Советской России мы привыкли строго делить всех государственных деятелей, известных представителей культуры, полководцев, участников классовых сражений на «наших» и «не наших». К первым относили Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, борцов с эксплуататорами (Спартака, Пугачева, Разина), художников-реалистов (Репина, Перова, Сурикова), критиков царизма (Радищева, Белинского, Чернышевского), защитников Отечества (Невского, Минина, Суворова), ученых, в чем-то не соглашавшихся с царскими чиновниками (Мечникова, Павлова, Тимирязева). В разряд «не наших» зачислялись цари (Николай I, Александр II), высокопоставленные чиновники (Витте, Столыпин), писатели, указавшие на некоторые отрицательные черты большевиков (Бунин, Замятин, Аверченко), русские полководцы с иностранными фамилиями (Барклай де Толли), противники Сталина (Троцкий, Каменев, Бухарин), диссиденты (Сахаров, Пастернак, Григоренко).
«Наших» изображали как носителей всех положительных качеств. Они представали на страницах научных и литературных произведений, в фильмах, спектаклях, картинах честными, благородными, исключительно поря- дочными, отзывчивыми на чужую боль, связанными с народом. Соответственно, «не наши» описывались исчадиями ада, злодеями, лжецами, пасквилянтами, развратниками.
Естественно, что Лев Толстой мог быть только «нашим». Ведь на него бросил благосклонный взгляд В. И. Ленин. Вождь большевиков назвал писателя «зеркалом русской революции» и «матерым человечищем» [1]. Лидеру РСДРП(б) импонировали публицистические статьи Л. Толстого, в которых в самой резкой форме обличались различные стороны жизни царской России. В. И. Ленину понравилось, что он «в своих последних произведениях обрушился со страстной критикой на все современные, государственные, церковные, общественные, экономические порядки, основанные на порабощении масс, на нищете их, на разорении крестьян и мелких хозяев вообще, на насилии и лицемерии, которое сверху донизу пропитывает всю современную жизнь» [2].
Действительно, Лев Николаевич почти всю свою сознательную жизнь, как сказал А. М. Горький, всех и вся обвинял, ниспровергал, разоблачал, беспощадно критиковал, вскрывал язвы и пороки человечества, выносил безжалостные приговоры и давно умершим, и живым царям [3].
Вот как оценивал Л. Н. Толстой тех, кто стоял во главе нашего государства в XVI — начале XX веков: «В России властвовали, избивая и мучая людей, то Иван IV, то шальной, зверский, жестокий, выхваленный Петр со своей пьяной компанией, то безграмотная распутная девка Катька, то немец Бирон, любовник глупой бабы, считавшейся императрицей, то немка Анна, любовница другого немца, то распутная девка Елизавета, потом распутная из распутных немка, мужеубийца Екатерина «Великая», то полубешеный Павел, то отцеубийца, лгун, ханжа Александр, то глупый, жестокий солдат Николай, то слабый, неумный и недобрый Александр II, то совсем глупый, грубый, невежественный Александр III. И все эти жалкие люди выводятся в герои, гении, благодетели человечества. И вот царствует теперь невежественный, слабый и недобрый Николай II со своими иконами и мощами» [4, с. 337].
Лев Толстой, как и большевики, не узрел ни одного положительного момента в деятельности последних российских императоров. Об одном из величайших достижений Александра II — отмене крепостного права — он отозвался с глубочайшим презрением. 28 марта 1861 года в письме к известному революционеру А. И. Герцену великий писатель подчеркнул: «Читали ли вы подробные положения об освобождении? Я нахожу, что это совершенно напрасная болтовня» [5]. Столь же невероятным является тот факт, что Лев Толстой не заметил и другие выдающиеся реформы Александра II, он просто не упоминает о них в своих публицистических произведениях, дневниках и письмах.
Более чем мрачными красками живописал выдающийся художник слова картину царствования Александра III. «Что же сделало правительство этого императора? — вопрошал Л. Н. Толстой 31 августа 1896 года в письме А. М. Калмыковой. — Изменило, ограничило суд присяжных; уничтожило мировой суд; уничтожило университетские права; изменило всю систему преподавания в гимназиях; возобновило кадетские корпуса, даже казанную продажу вина; установило земских начальников; узаконило розги; уничтожило почти земство; дало бесконтрольную власть губернаторам; поощряло экзекуции; усилило административные ссылки и заключения в тюрьмах и казни политических заключенных;
ввело новые гонения на веру; довело одурение народа дикими суевериями православия до последней степени; узаконило убийство на дуэлях; установило беззаконие в виде охраны с смертной казнью, как нормальный порядок вещей... Вся печальная деятельность правительства Александра III сделалась предметом безумного, печатавшегося во всех либеральных газетах и журналах восхваления Александра III и возведения его в сан великого человека, в образцы человеческого достоинства» [6, с. 197—198]. Поразительно, но великий писатель прошел мимо многих положительных сторон правления этого императора: миротворческой деятельности (Россия не воевала в 1881—1894 гг.), масштабного строительства железных дорог, практического отсутствия казней по политическим мотивам, расцвета литературы, живописи, музыки, архитектуры. К тому же Александр III обладал весьма привлекательными личными чертами: он был прекрасным семьянином (что единодушно констатировали европейские жур налисты), никогда на лгал, не лицемерил, не хвастался, держал слово [7, 8].
Столь же негативно отзывался Л. Н. Толстой о царствовании Николая II: «Устраивается ужасающая по своей нелепости, безумной трате денег коронация; с неслыханной прежде наглостью выдумываются в канцелярии синода новые, самые глупые средства одурения народа; усиливаются строгости цензуры, продолжается положение охраны, то есть узаконенное беззаконие, и положение становится хуже и хуже» [6, с. 198—199]. Автор «Анны Карениной» назвал правительство Николая II «Чингис-ханом с телеграфом», которое «с самых разных сторон с неумолимой грубостью и жестокостью, без всякой необходимости, не переставая мучает и давит» русский народ [9].
Используя свой гениальный дар обличителя, Л. Н. Толстой с яростью обрушился на реформы и действия П. А. Столыпина, направленные на борьбу с террористами. Обращаясь к премьер-министру, писатель подчеркнул: «Вы... не только не вводите какое-либо новое устройство, которое могло бы улучшить общее состояние людей, но вводите в одном, в самом вопросе жизни людей — в отношении их к земле — самое грубое, нелепое утверждение того, зло чего уже чувствуется всем миром и которое неизбежно долж- но быть разрушено — земельная собственность. Ведь то, что делается теперь с этим нелепым законом 9 ноября, имеющим целью оправдание земельной собственности и не имеющим за себя никакого разумного довода, как только, что это самое существует в Европе» [10].
Л. Н. Толстой заявил, что Столыпинская аграрная реформа, как и земельная политика Николая I, нацелена не на освобождение крестьян, а на закрепощение их. Сам писатель считал, что единственный путь решения аграрного вопроса — уничтожение земельной собственности и введение системы единого налога [11]. Но, увы, предлагая это, Л. Н. Толстой продемонстрировал явное лицемерие. Когда крестьянин А. С. Маров спросил писателя, почему же он сам не отказался от своей земли в пользу яснополяновских мужиков, тот ответит со значительной долей двуличия: «Чтобы избавиться от земельной собственности, которая числилась за мною, я решил поступить так, как будто бы я умер. Не стану говорить о том, почему я поступил так, а не отдал землю крестьянам. Дело в том, что уже около 20 лет тому назад мои наследники взяли каждый то, что ему по закону причиталось, у меня же не осталось ничего, и я никакой собственностью с тех пор, кроме как своим платьем, не владею и не распоряжаюсь» [12].
Откликаясь на сообщения о казнях революционеров, инициированных премьер-ми нистром, Л. Н. Толстой писал П. А. Столыпину: «Пишу вам об очень жалком человеке, самом жалком из всех, кого я знаю теперь в России. Человека этого вы знаете и, странно сказать, любите его, но не понимаете всей степени его несчастья и не жалеете его, как того заслуживает его положение... Деятельность ваша все более и более дурная, преступная... Вы уже заслужили ту ужасную славу, при которой всегда, покуда будет история, имя ваше будет повторяться как образец грубости, жестокости и лжи... Вместо умиротворения вы до последней степени напряжения доводите раздражение и озлобление людей всеми этими ужасами произвола, казней, тюрем, ссылок и всякого рода запрещений» [10].
К сожалению, Лев Николаевич взял на себя роль всемирного судьи и пророка, поучая всех и вся. Он потерял всякое понятие о скромности и такте. Без всяких сомнений и колебаний он писал, что никто — ни Алек- сандр II, ни Александр III, ни П. А. Столыпин — не понимают ничего в аграрном вопросе, что все они дураки и посредственности и ровным счетом ничего не смыслят в характере российского крестьянина. Писатель в 1905 году открыто заявил: «Я во всей этой революции состою в звании, добро и самовольно принятом на себя, адвоката 100-миллионного земледельческого народа» [13, с. 28]. Думается, что у Л. Н. Толстого не было на то моральных оснований: он не знал интересов большинства русских мужиков. Великий писатель полагал, что крестьянин «ждет и желает одного: освобождения земли от права собственности» [13, с. 30], между тем ни для кого не было секретом, что деревенское население мечтало о собственной земле.
Однако Л. Н. Толстой не только ни в грош не ставил всех земных владык, но и небесных. Вот как он объяснил причины возникновения ведущей религии мира: «1800 лет назад явился какой-то нищий и что-то поговорил. Его высекли и повесили, и все про него забыли, как были забыты миллионы таких же случаев, и лет 200 мир ничего не слышал про него. Но оказывается, что кто-то запомнил то, что он говорил, рассказал другому, третьему. Дальше — больше, и вот миллиарды людей, умных и глупых, ученых и безграмотных, не могут отделаться от мысли, что этот, только этот человек был Бог» [4, с. 335].
Оскорбляя руководителей России и Бога, Лев Толстой надеялся на то, что его арестуют и заключат в тюрьму. Так, писатель В. Вересаев вспоминал о своей встрече с автором «Войны и мира» в 1903 году: «Он спросил меня, почему я живу в Туле. Я ответил, что выслан министром внутренних дел из Петербурга. Толстой вздохнул и с завистью сказал:
— Меня ни разу не высылали, я ни разу не сидел в тюрьме, — я не имел этого счастья» [14]. Надо сказать, что Л. Н. Толстой не испытывал никаких стеснений от его современников-императоров. Даже отлучение от церкви носило не репрессивный, а символический характер. Самый суровый по характеру из трех последних российских царей — Александр III — приказал министру внутренних дел Д. А. Толстому: «Прошу вас не трогать Толстого. Я нисколько не намерен сделать из него мученика» [8, с. 204].
Тщеславие, самодовольство и бахвальство приобретало у Льва Николаевича порой дикий, фантастический характер. Вот что говорил он о своих собратьях по цеху: «Поэт Полонский смешон... Панаева — стерва... Писемский гадок... Лажечников жалок... Тургенев скучен, дурен; у Пушкина... “Цыганы” прелестны, остальные поэмы — ужасная дрянь... Прочел “Юлия Цезаря” У. Шекспира. Удивительно скверно. А какое грубое, безнравственное, пошлое и бессмысленное произведение “Гамлет”!»
Лев Толстой не постеснялся сказать А. П. Чехову:
— Терпеть не могу Шекспира, но ваши пьесы еще хуже [15].
Таких уничижительных эпитетов не позволяли себе знаменитые русские литературные критики В. Г. Белинский, Н. А. Добролюбов и другие. Трудно поверить, но Л. Н. Толстой выступил противником издания русских классиков. «Есть, — убеждал он, — сочинения Пушкина, Тургенева, Державина, Филарета. И все эти журналы и сочинения, несмотря на давность существования, неизвестны, не нужны для народа и не принесут никакой пользы» [16, с. 13].
Ни в какие ворота не лезло заявление великого писателя о том, что изобретение Иоганна Гуттенберга оказалось пятым колесом в российской телеге: «Ни пахать, ни делать квас, ни плесть лапти, ни рубить срубы, ни петь песни, ни даже молиться — не учится и не научился народ из книг. Выгод книгопечатания для народа не было» [16, с. 68]. И уже совершенно абсурдным были рассуждения Льва Николаевича о том, что железные дороги (и другие чудеса техники) ужасно вредны для крестьянина.
Великий писатель сделал необоснованное заключение о том, что крестьянину вредны занятия наукой, искусством и литературой, что он и так гораздо выше по уму и моральным качествам любого интеллигента. Ученый, считал Л. Н. Толстой, «может вычислить силу и передачу двигателя, вычислить высшей математикой дугу моста и т. п., но перед простыми вопросами народного труда он становится в тупик. Как улучшить соху, телегу, как сделать проездным ручей? Он ничего не знает и ничего не понимает — меньше, чем самый последний мужик» [17, с. 356].
Да и вообще, доказывал Лев Николаевич, не интеллигенты должны учить простых людей, а те, кто занимается физическим трудом, обязаны вразумлять физиков, художников, литераторов, композиторов. «Говорить, — сделал он сногсшибательный вывод, — что деятельность наук и искусства содействовала движению вперед человечества, все равно, что говорить, что неумелое, мешающее ходу судна болтание веслами на судне, идущем по течению, содействует движению судна» [17, с. 360]. Свой тезис о никчемности интеллигенции писатель подкрепил ссылкой на личный опыт: «За всю мою жизнь два русских мыслящих человека имели на меня большое нравственное влияние и обогатили мою мысль и уяснили мне мое миросозерцание, — это были два живущих теперь замечательных человека, оба всю свою жизнь работавшие мужицкую работу, — крестьяне Сютаев и Бондарев» [17, с. 387]. Знаменательно, что после длительной беседы с автором «Войны и мира», изложившим свою теорию об отрицательном влиянии достижений культуры на жизнь народа, известный историк П. Н. Милюков заключил: «Я понял, что мне никогда не понять Толстого» [18].
Гений художественного слова не обладал элементарным здравомыслием. Он нередко не мог наладить взвешенных нормальных отношений с окружающими. Его споры с женой приобретали часто истерический, скандальный характер. Толстой в семье оказался никудышным педагогом и воспитателем. Писатель подчеркивал, например, что детей не надо заставлять учиться, что их следует растить в простой, трудовой жизни. В результате такого подхода, констатировала дочь Л. Н. Толстого Александра, никто из ее братьев и сестер серьезно учиться не захотел. Льва Николаевича сыновья не уважали, открыто называли «злой собакой», «выжившим из ума стариком» и т. д. [19].
Наличие художественного таланта отнюдь не делает автоматически его носителя мудрее, честнее, сердечнее, порядочнее. Совершенно очевидно, что люди с искрой божией (как правило, весьма популярные) сплошь и рядом страдают повышенным честолюбием и тщеславием. Нам представляется весьма интересным мнение о Л. Н. Толстом известного российского реформатора С. Ю. Витте как великом писателе и наивном мыслителе, как гении, поступки и суждения которого «находились совершенно на грани между людьми нормальными и свихнувшимися» [20].
Л. Н. Толстой продемонстрировал феноменальные способности обличителя различных пороков Российского государства, но оказался не способен к взвешенным и объективным оценкам. Лишь редкие суждения великого писателя о политической ситуации в России в конце XIX — начале XX вв. можно отнести к разряду жемчужин государственной мысли. Но тем не менее они есть.
Трагизм развития человеческого общества, подчеркивал Л. Н. Толстой, заключается в том, что революции не улучшают положения народа, они несут насилие, грабежи, убийства. «Общественная борьба, — писал Лев Николаевич, — всегда отвлекает внимание людей от внутренней жизни и потому всегда, неизбежно развращая людей, понижает уровень общественной нравственности. Понижение же уровня общественной нравственности делает то, что самые безнравственные части общества все больше и больше выступают наверх, и устанавливается безнравственное общественное мнение, разрешающее и даже одобряющее преступления. И устанавливается порочный круг: вызванные общественной борьбой худшие части общества с жаром отдаются соответствующей их низкому нравственному уровню общественной деятельности, деятельность же эта привлекает к себе еще худшие элементы общества» [21, с. 111]. Рассуждая о перспективах обострившейся классовой борьбы и возможностях крушения царской власти, Л. Н. Толстой верно заметил: «Новое правительство будет также основано на насилии, как и старое. Как Кромвель, как Марат давили своих противников, так и у нас новое правительство давило бы консерваторов» [21, с. 110]. Лев Николаевич мучительно размышлял, как выйти из этой удручающей ситуации, пытался нарисовать контуры идеального общества. Они оказались совершенно нереальными.
Известный русский писатель В. Г. Короленко достаточно точно суммировал результаты этих более чем полувековых исканий великого художника слова: «Его утопия: простой сельский быт, которому остается только проникнуться началами первобытного христианства. Все усложнения и надстройки позднейших веков должны исчезнуть сами собой. Только бы все любили друг друга. Поэтому не было ни бедных вдовиц, никто бы не обижал сирот, не грабило бы начальство...
Фабрик и заводов, университетов и гимназий не было бы вовсе. Не было бы «союзов», не было бы политики, не было бы болезней, не было врачей и уж, конечно, не было бы губернаторов, исправников, урядников и вообще «начальства» [22, с. 106—107]. В. Г. Короленко верно заключил, анализируя достижения и неудачи Л. Н. Толстого — мыслителя, публициста и моралиста: сила его в критике сложившихся несправедливых отношений в Российском государстве и других странах, слабость — в неумении самому ориентироваться в запутанностях общественных отношений: «Когда сам Толстой со своей мечтой, навеянной чудным сновидением, выходит на городскую улицу XX века, — он беспомощен и наивен совершенно» [22, с. 107].
-
1. Горький, А. М. В. И. Ленин / А. М. Горький // Соч. М., 1963. Т. 18. С. 290.
-
2. Ленин, В. И. Л. Н. Толстой и современное рабочее движение / В. И. Ленин // Полн. собр. соч. М., 1961. Т. 20. С. 40.
-
3. Горький, М. История русской литературы / М. Горький. М., 1939. С. 295.
-
4. Цит. по: Боханов, А. Н. Русская идея от Владимира Святого до наших дней / А. Н. Боханов. М., 2005.
-
5. Толстой, Л. Н. Письмо А. И. Герцену от 28 марта 1861 г. / Л. Н. Толстой // Собр. соч. М., 1965. Т. 17. С. 227.
-
6. Толстой, Л. Н. Письмо А. М. Калмыковой от 31 августа 1896 г. / Л. Н. Толстой // Собр. соч. М., 1965. Т. 18.
-
7. См.: Волков, Е. Русские императоры XIX века: в свидетельствах современников и оценках потомков / Е. Волков, А. Канюченко. Челябинск, 2003. С. 265—327.
-
8. Барковец, О. Неизвестный император Александр III: о жизни, любви и смерти / О. Бар-ковец, А. Крылов-Толстикович. М., 2003.
-
9. Толстой, Л. Н. Пора понять / Л. Н. Толстой // Собр. соч. М., 1964. Т. 16. С. 568—569.
-
10. Толстой, Л. Н. Письмо П. А. Столыпину от 30 августа 1909 г. / Л. Н. Толстой // Собр. соч. М., 1965. Т. 18. С. 448.
-
11. Толстой, Л. Н. Письмо Т. Л. Сухотиной от 6 ноября 1909 г. / Л. Н. Толстой // Собр. соч. М., 1965. Т. 18. С. 454, 456.
-
12. Толстой, Л. Н. Письмо А. С. Марову от 22 марта 1906 г. / Л. Н. Толстой // Собр. соч. М., 1965. Т. 18. С. 380.
-
13. Шифман, А. Лев Толстой — публицист / А. Шифман // Собр. соч. Л. Н. Толстого. М., 1964. Т. 16. С. 28.
-
14. Вересаев, В. Воспоминания / В. Вересаев. М.—Л., 1946. С. 493. То же самое говорил Л. Н. Толстой А. М. Горькому (См.: Горький, М. Избранное / М. Горький. М., 1983. С. 145).
-
15. Вестник. Ульяновск, 2008. С. 13.
-
16. Толстой, Л. Н. Прогресс и определение образования / Л. Н. Толстой // Собр. соч. М., 1964. Т. 16.
-
17. Толстой, Л. Н. Так что же нам сделать? / Л. Н. Толстой // Собр. соч. М., 1964. Т. 16.
-
18. Милюков, П. Н. Воспоминания / П. Н. Милюков. М., 1990. С. 172.
-
19. Толстая Александра . Дочь / А. Толстая. М., 2000. С. 27, 154, 163, 167, 169.
-
20. Витте, С. Ю. Избранные воспоминания / С. Ю. Витте. М., 1991. С. 238, 494.
-
21. Бунин, И. А. Освобождение Толстого / И. А. Бунин // Собр. соч. М., 1996. Т. 6.
-
22. Короленко, В. Г. Лев Николаевич Толстой / В. Г. Короленко // Собр. соч. М., 1955. Т. 8.
Список литературы Государственно-правовые и этические взгляды Л. Н. Толстого
- Горький А. М. В. И. Ленин/А. М. Горький//Соч. М., 1963. Т. 18. С. 290.
- Ленин В. И. Л. Н. Толстой и современное рабочее движение/В. И. Ленин//Полн. собр. соч. М., 1961. Т. 20. С. 40.
- Горький М. История русской литературы/М. Горький. М., 1939. С. 295.
- Боханов А. Н. Русская идея от Владимира Святого до наших дней/А. Н. Боханов. М., 2005.
- Толстой Л. Н. Письмо А. И. Герцену от 28 марта 1861 г./Л. Н. Толстой//Собр. соч. М., 1965. Т. 17. С. 227.
- Толстой Л. Н. Письмо А. М. Калмыковой от августа 1896 г./Л. Н. Толстой//Собр. соч. М., 1965. Т. 18.
- Волков Е. Русские императоры XIX века: в свидетельствах современников и оценках потомков/Е. Волков, А. Канюченко. Челябинск, 2003. С. 265-327.
- Барковец О. Неизвестный император Александр III: о жизни, любви и смерти/О. Барковец, А. Крылов-Толстикович. М., 2003.
- Толстой Л. Н. Пора понять/Л. Н. Толстой//Собр. соч. М., 1964. Т. 16. С. 568-569.
- Толстой Л. Н. Письмо П. А. Столыпину от 30 августа 1909 г./Л. Н. Толстой//Собр. соч. М., 1965. Т. 18. С. 448.
- Толстой Л. Н. Письмо Т. Л. Сухотиной от ноября 1909 г./Л. Н. Толстой//Собр. соч. М., 1965. Т. 18. С. 454, 456.
- Толстой Л. Н. Письмо А. С. Марову от 22 марта 1906 г./Л. Н. Толстой//Собр. соч. М., 1965. Т. 18. С. 380.
- Шифман А. Лев Толстой -публицист/А. Шифман//Собр. соч. Л. Н. Толстого. М., 1964. Т. 16. С. 28.
- Вересаев В. Воспоминания/В. Вересаев. М.-Л., 1946. С. 493. То же самое говорил Л. Н. Толстой А. М. Горькому (См.: Горький М. Избранное/М. Горький. М., 1983. С. 145).
- Вестник. Ульяновск, 2008. С. 13.
- Толстой Л. Н. Прогресс и определение образования/Л. Н. Толстой//Собр. соч. М., 1964. Т. 16.
- Толстой Л. Н. Так что же нам сделать?/Л. Н. Толстой//Собр. соч. М., 1964. Т. 16.
- Милюков П. Н. Воспоминания/П. Н. Милюков. М., 1990. С. 172.
- Толстая Александра. Дочь/А. Толстая. М., 2000. С. 27, 154, 163, 167, 169.
- Витте С. Ю. Избранные воспоминания/С. Ю. Витте. М., 1991. С. 238, 494.
- Бунин И. А. Освобождение Толстого/И. А. Бунин//Собр. соч. М., 1996. Т. 6.
- Короленко В. Г. Лев Николаевич Толстой/В. Г. Короленко//Собр. соч. М., 1955. Т. 8.