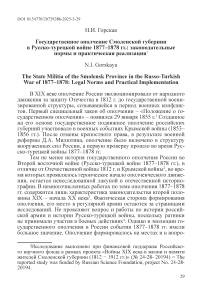Государственное ополчение Смоленской губернии в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг.: законодательные нормы и практическая реализация
Автор: Горская Н.И.
Журнал: Новый исторический вестник @nivestnik
Рубрика: Российская государственность
Статья в выпуске: 3 (85), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена изучению ополчения Смоленской губернии во время Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. В статье на основании ранее неизвестных документов, хранящихся в Государственном архиве Смоленской губернии, а также документов Центрального государственного архива Москвы и Государственного архива Российской Федерации впервые в историографии рассматривается процесс формирования ополчения во время Второй восточной войны в одной из земских губерний Центральной России. Основное внимание уделяется анализу законодательства относительно ополчения в рамках военной реформы 1874 г., в результате которой ополчение стало частью вооруженных сил России; действиям местной администрации и земства по подготовке призыва ратников, особенностям набора во время Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. по сравнению с Крымской войной 1853–1856 гг. Военный призыв ратников проходил в новых условиях пореформенного развития России, что позволяло использовать новые пореформенные институты в лице крестьянского и земского самоуправления. Автор приходит к выводу, что в результате военной реформы, несмотря на введение общей воинской повинности, численность ополчения Смоленской губернии резко сократилось; что ополчение использовалось для пополнения запасных частей, дислоцированных в Смоленской губернии; что накануне призыва местная администрация провела большой комплекс подготовительных мероприятий, но набор ратников, впервые проводившийся на основе военной реформы 1874 г., сопровождался трудностями, вызванными обстоятельствами военного времени и ошибками администрации. Негативный опыт по созданию ополчения привел к развитию военного законодательства относительно ополчения и изменению системы его обеспечения, в результате чего земство было освобождено от этой обязанности.
Русско-турецкая война 1877–187 гг., Смоленская губерния, ополчение, законодательство, призыв ратников, местная военная и гражданская администрация, земство, волостное общественное управление
Короткий адрес: https://sciup.org/149149208
IDR: 149149208 | DOI: 10.54770/20729286-2025-3-29
Текст научной статьи Государственное ополчение Смоленской губернии в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг.: законодательные нормы и практическая реализация
В XIX веке ополчение России эволюционировало от народного движения за защиту Отечества в 1812 г. до государственной военизированной структуры, созывавшейся в период военных конфликтов. Первый специальный закон об ополчении – «Положение о государственном ополчении» – появился 29 января 1855 г.1 Созданное на его основе государственное подвижное ополчение российских губерний участвовало в военных событиях Крымской войны (1853– 1856 гг.). После отмены крепостного права, в результате военной реформы Д.А. Милютина, ополчение было включено в структуру вооруженных сил России, а первую проверку прошло во время Русско-турецкой войны 1877–1878 гг.
Тем не менее история государственного ополчения России во Второй восточной войне (Русско-турецкой войне 1877–1878 гг.), в отличие от Отечественной войны 1812 г. и Крымской войны2, во время которых проявлялось героическое начало ополченческого движения, остается неисследованной лакуной в отечественной историографии. В немногочисленных работах по теме ополчения 1877–1878 гг. содержится лишь характеристика законодательства второй половины XIX – начала XX века3. Фактическая сторона формирования ополчения, его место в регулярной армии остаются за страницами исследований. Не проясняют вопрос и работы по истории российской армии и истории Русско-турецкой войны, поскольку ратники не принимали участия в боевых действиях4. Однако в эволюции государственного ополчения в России события 1877–1878 гг. имели большое значение. Ополчение формировалось на местах и в вопро- сах материального обеспечения зависело от земства. Вследствие этого для воссоздания полной истории государственного ополчения в России необходимо изучать как ополчения всех периодов его существования, так и ополчения отдельных губерний. В настоящей статье речь пойдет об ополчении Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. в Смоленской губернии, на территории, где последовательно осуществлялись реформы Александра II, включая крестьянскую, земскую и военную, благодаря которым происходила модернизация России и модернизация вооруженных сил.
***
С военно-экономической точки зрения Русско-турецкая война 1877-1878 гг. происходила в специфических для России обстоятельствах. Армия переживала период строительства на основе общей воинской повинности, введенной 1 января 1874 г. по реформе военного министра Д.А. Милютина. Было отменено крепостное право, но многие губернии, включая Смоленскую губернию, оставались аграрными. Это была одна из последних войн, когда «почти повсеместно в занятиях населения преобладало земледелие», фабрично-заводская промышленность и зависимость от капитала были не-значительны5. Социально-экономические условия пореформенного периода оказывали существенное влияние на законодательство и практические действия по формированию ополчения.
По закону «О введении общей воинской повинности» 1 января 1874 г. ополчение вошло в вооруженные силы государства6. Все мужчины, вне зависимости от сословной принадлежности, достигшие 20 летнего возраста, тянули жребий, («вынимается единожды на всю жизнь»), который одних отправлял в постоянные войска, других – в ополчение. Ополченцы именовались ратниками и собирались лишь на военное время. В ополчении входило все мужское население, не состоявшее на службе, в возрасте от 20 до 40 лет, но «способное носить оружие»7.
Ополчение делилось на два разряда. В первый разряд входили ратники младших четырех возрастов – четырех последних призывов, проходивших ежегодно с 15 ноября по 1 декабря. Они «предназначались» для пополнения армии, а также для «ополченческих частей». Ратники всех остальных возрастов шли во второй разряд и служили только в ополчении8. Как все призывники в постоянную армию они проходили медицинское освидетельствование. Ко времени русско-турецкой войны, как будет показано ниже, было осуществлено три призыва ополченцев – 1855, 1856 и 1857 гг. рождения. В ополчение были записаны молодые люди двадцати-двадцати двух лет. В этом была особенность ополчения 1877-1878 гг. по сравнению с Крымской войной, когда часть помещиков стремилась отдавать в ополчение пожилых и больных9.
По закону 1 января 1874 г. ополчение становилось всесословным, а служба в нем – обязательной, как и в действующей армии. Однако в связи с необходимостью созыва ополчения буквально через несколько лет после принятия закона, многие вопросы организации ополчения требовали детализации и дальнейшей законодательной разработки.
30 октября 1876 г., в период обострения международной обстановки в связи с ситуацией на Балканском полуострове и возможной войной между Россией и Турцией, был принят второй специальный закон об ополчении – «Положение о государственном ополчении»10.
В сложных условиях ожидания возможной войны Положение уточняло важнейший аспект организации ополчения на местах – порядок призыва в ополчение: «по возрастам, начиная с младшего по порядку номеров жребия, полученных при призыве к исполнению воинской повинности»11.
Для того, чтобы включить в ополчение людей, имевших военный опыт, к молодым людям, тянувшим ополченческий жребий, присоединялись уволенные из запаса и добровольцы, даже в возрасте свыше 40 лет. От призыва в ополчение освобождались преподаватели учебных заведений и лица, «занимавшие должности на государственной и общественной службе»12.
На формирование ополчения отводилось 28 дней «со дня получения в губернии Высочайшего повелении о сборе ополчения». Число пеших дружин и конных сотен, формировавшихся в губернии, определялось Высочайшим Манифестом о призыве ополчения, а пункты сбора – губернским по воинской повинности присутствием, чтобы «в каждом пункте можно было образовать не менее одной дружины или сотни» 13.
В создании ополчения в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг. большую роль играло местное общество в лице самоуправления. В тех губерниях, где были введены земства, они заменили дворянские собрания в решении организационных вопросов и вопросах материально-финансового обеспечения ополчения. Привлечение земства для несвойственной ему государственной задачи имело финансовое и идеологическое обоснование.
Комиссия по составлению Устава 1 января 1874 г. исходила из представлений о народном характере ополчения и недостаточности государственного бюджета для его финансирования. В народном характере усматривалась связь с предшествующей историей ополчения в нашей стране и патриотическое начало всего ополченческого движения. Кроме того, в истории России на ополчение всегда расходовались местные материальные и финансовые средства. Исходя их этих соображений, Комиссия пришла к выводу, что «ополчение должно быть организовано попечением всего населения при посредстве земских учреждений, ведающих народным хозяйством»14.
Часть расходов на ополчении брало на себя государство. От казны ратники получали оружие, боевые припасы, сигнальные рожки, барабаны, а также «полное содержание» со дня поступления в распоряжение Военного или Морского ведомства. Снабжение обмундированием и снаряжением, устройство обоза и аптек падало на земства15. Земство должно было использовать на ополчение все имеющиеся финансы: бюджетные средства, а если их не хватало, то и специальные капиталы, но «заимообразно» – Министерство финансов открывало земствам «авансные кредиты» от трех до шести лет. Поскольку ополчение собиралось лишь во время войны, в мирное время губернские земские управы обязаны были содержать «в постоянной готовности смету» расходов на снаряжение и содержание ополчения16.
После отмены крепостного права, когда бывшие крепостные поучили статус «свободных сельских обывателей», по закону «О введении общей воинской повинности» 1874 г. и по Положению 1876 г., значительно изменилось положение ополченцев и отношение к ним государства. Не только офицеры, но и рядовые (ратники) ополчения, как и в регулярной армии, пользовались правами государственной службы и подчинялись военным законам17.
Государство заявило о необходимости призрения семей рядовых вооруженных сил, ратников и запасных на время их нахождения в армии, а также семей погибших или без вести пропавших18. Примечательно, что закон относительно семей ратников и запасных был принят раньше соответствующего решения относительно семей рядовых действующей армии - 25 июня 1877 г.19
Призрение пострадавших государство также возложило на органы земского и городского самоуправления, которые занимались этой социальной задачей, несмотря на серьезные финансовые про-блемы20.
***
В тех губерниях, где не было земских учреждений, все обязанности по формированию ополчения возлагались на губернские по воинской повинности присутствия. Однако, как показало создание Смоленского ополчения, воинские присутствия и земства постоянно контактировали с местными государственными учреждениями и крестьянским общественным управлением, а общую координирующую роль в этом деле играл губернатор, отвечающий за наборы в армию. Призыв в ополчение, его дислокация, снабжение были проверкой эффективности не только военных преобразований, но и всей системы власти на местах, сложившейся после реформ 1860-х гг.
Русско-турецкая война 1877–1878 гг. быстро показала, «что обученный запас довольно быстро был исчерпан, и в связи с этим пришлось призвать для пополнения частей ратников»21. Подготовка к сбору ратников началась сразу после принятия закона об ополчении, после 30 октября 1876 г.
23 ноября 1876 г. при Военном министерстве была созвана особая комиссия из представителей Военного и Морского ведомств, МВД и Министерства финансов с участием представителей «некоторых земств». Комиссия разработала формы важнейших делопроизводственных и учетных документов: Правила для составления и ведения списка ополченцев, Инструкцию о порядке призыва ратников, Форму плана формирования ополчения и некоторые другие. Эти правила и формы были опубликованы Сенатом и разосланы на места 3 марта 1877 г.22
Серьезная проблема при формировании ополчения, с точки зрения Комиссии, заключалась в отсутствии общероссийских данных о численности и составе населения. В крепостническую эпоху осуществлялись переписи только податного населения. Вследствие этого комиссия заявила о необходимости проводить «разверстку ополченцев между губерниями и внутри губерний», не поименно, по повесткам, а массово, призывая ополченцев только первого разряда, и 1853, 1854, 1855 гг. рождения23. В связи с необходимостью быстрого сбора ополчения в условиях надвигающейся войны Комиссия приняла еще ряд важных решений: возможность сбора ополченцев как в призывных участках, так и в уездных городах; в тех местах, где ратники проживали на момент призыва, хотя бы были приписаны к другим местам; уточнялось время явки призывников ратников – в течение 48 часов24.
Поскольку по Уставу 1874 г. в первый разряд ратников призывались четыре последних призыва, а с момента введения общей воинской повинности прошло только три призыва, особое внимание обращалось на зачисление добровольцев, даже «более сорока лет». Подчеркивалась обязанность медицинского освидетельствования. Кроме того, вводилась норма, существенно ограничившая льготников: «в военное время не может быть допущено освобождение от призыва в ополчение ни по семейному положению, ни для окончания образования»25. Комиссия подробно разъясняла вопросы медицинского сопровождения и обязанности земства и казны по формированию ополчения26. Учитывая сжатые сроки снаряжения ополченцев и недостаток развития текстильной промышленности (даже в Костромской и Ярославской губерниях), а также слабость местной торговли («нельзя ни приобресть в торговле готовых предметов одежды, ни найти достаточного количества мастеров») были внесены изменения в форму ратников: разрешено являться «в своих рубахах», использовать местную верхнюю одежду и т.п.27
На местах, как и в центре, подготовка к возможному созыву ополчения началась в конце 1876 г.
На подготовительном этапе у местных органов власти, как и предполагала Комиссия, обнаружились серьезные трудности, связанные с военным учетом. В воинских присутствиях губернского и уездных уровней отсутствовали сведения о числе ратников, зачисленных в ополчение по призывам 1874, 1875, 1876 гг.
При решении этого вопроса в Смоленской губернии большую роль сыграли волостные правления, которые, в отличие от военной и гражданской администрации, тщательно вели списки ратников, поскольку наборы в армию лишали деревню части рабочей силы. В апреле 1877 г. необходимые списки через исправников были доставлены в уездные по воинской повинности присутствия28. Со схожей проблемой столкнулись и другие земства. Московское земство, создавшее в декабре 1876 г. комиссию для решения вопросов в связи с возможным формированием ополчения, также обратилось к волостным правлениям29.
Казалось, неразрешимая проблема возникла в связи с отсутствием в земских управах сведений о численности ополченческих единиц губернии и уездов. Эти сведения они должны были получить от военных властей для немедленного составления сметы на обмундирование и снабжение ополченцев. Смоленский губернатор А.Г. Лопатин потребовал отчеты по сметам уже в ноябре 1876 г. Земские управы, а затем и чрезвычайные земские собрания, созванные в связи с «ополченческим делом», не могли дать точных сведений и строили свои расчеты на предполагаемых данных. Земская управа Ельнинского уезда оперировала численностью ельнинской дружины 1855 гг.; другие земства – собственными представлениями о возможной численности ополчения, третьи отказались назвать какую-либо определенную сумму. При этом все уездные земства заявили, что на государственное ополчение у них нет собственных средств («никакого запасного капитала»)30. Все уездные земства рассчитывали на «авансные кредиты из сумм государственного казначейства», которые были разрешены Госсоветом 30 октября 1876 г.31
Ополченческое дело стало предметом обсуждения на очередном XII Смоленском губернском земском собрании 9-22 января
1877 г. К этому времени губернские гласные были хорошо знакомы и с требованиями законодательства, и с реальным положением дел. Специальная комиссия (Д.А. Арбузов, Д.Н. Апрелев, К.И. Ку-баровский), избранная для составления сметы на обмундирование и снаряжение ополчения, предложила взять за основу ополченческой единицы численность одной уездной дружины образца 1855 г. (в Смоленской губернии было сформировано 11 дружин) и назначить на ее снаряжение 48 353 руб. Собрание определило размер предполагаемого жалования офицерам, приблизительную стоимость обмундирования одного ратника и обсудило ряд других вопросов32.
Земства Смоленской и других губерний губернии были поставлены в сложное положение. С одной стороны, по опыту 1855 г. были известны трудности с обмундированием и снабжением ополченцев (узость внутреннего рынка, нехватка сукна)33; с другой – состояние земских финансов во многих губерниях было плачевным. Земские бюджеты центральных губерний России были дефицитны. В 1876 г. в Смоленской губернии земские расходы составили 514 363 руб., сборы всего – 490 116 руб. В Калужской губернии расходы вылились в 665 782 руб., земские сборы едва достигли 556 242 руб.; в Московском земстве эти показатели соответственно равнялись: 1 121 336 руб. и 866 253 руб.34
Кроме того, на формирование ополчения был отведен слишком короткий срок, за который, учитывая бюрократическую процедуру, трудно было получить кредит.
Ситуация неопределенности относительно численности ополченцев и составления смет длилась до июля 1877 г. К этому времени земствами, военной и гражданской администрацией были осуществлены некоторые подготовительные мероприятия. В частности были уточнены списки ратников и составлено расписание призывных участков. С мая 1877 г. в «Смоленских губернских ведомостях» уездные присутствия публиковали расписание уездных призывных участков для освидетельствования ополченцев35.
Указ о призыве на службу части ратников государственного ополчения Александр II подписал, находясь в действующей армии на территории Болгарии в селе Бела 10 июля 1877 г. Ополчение первого разряда созывалось с целью пополнения «запасных и резервных частей» из губерний и областей Европейской России и Кавказа численностью 185 467 человек. От призыва в ополчение освобождалась лишь Бессарабская губерния36.
Не все историки согласны с тем, что действительная численность государственного ополчения соответствовала царскому указу. По данным известного военного теоретика и публициста А.А. Све-чина, во время Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. было моби- лизовано 170 тыс. ратников37. В свою очередь авторитетный исследователь истории армии и флота России Л.Г. Бескровный называл другую цифру: первоначально 185, 5 тыс., к которым присоединились еще 65 тыс.38
В Смоленской губернии Военное министерство назначило набор 2 900 ратников. Об этом уже 10 июля 1877 г., телеграммой МВД, был оповещен смоленский губернатор А.Г. Лопатин39. Формирование ополчения показало, что в 1877 г. наблюдалось существенное снижение количества ратников в Смоленской губернии по сравнению с Крымской войной. Численность была почти в 4 раза меньше разнарядки 1855 г., когда Смоленская губерния дала 11 323 ополченца из податных сословий40. Если в 1855 г ополченческая дружина, формировавшаяся из жителей уезда, насчитывала 1 030, 1 035 ратников41, то в 1877 г. в среднем на уезд приходился 241 ратник. Кроме того, эта численность не исчерпывала всех ополченческих ресурсов губернии – она составляла всего 15% (14, 9%) от общего списочного числа ратников первого разряда (19 372 человека)42.
Можно добавить, что осенью 1877 г. по призыву в постоянную армию из Смоленской губернии ушло 3 238 человек43. Следовательно, вместе с ополченцами во время Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. из Смоленской губернии было мобилизовано 6 138 человек: в 2, 2 раза меньше численности только государственного подвижного ополчения Смоленской губернии в 1855 г., не считая рекрутов.
Таким образом, с точки зрения обеспечения армии людьми и изъятия рабочих рук из хозяйства губернии, затраты 1877 г. были значительно меньше, чем это наблюдалось в 1855 г.
11 июля 1877 г. Смоленское губернское по воинской повинности присутствие направило «эстафетами» в уездные присутствия, на основании апрельских волостных списков, разнарядки на призыв ратников. Одновременно предписывалось немедленно доставлять в губернию информацию о взятых призывных возрастах, изготовить «в надлежащем количестве извещения о призыве Государственного ополчения», которое при объявлении призыва передать в местные полицейские управления «для поставления в известность жителей города и уезда»44. До населения доводились и Правила набора ратников в участках. Обращалось внимание, что «не установлено никаких льгот по семейному положению», от зачисления в ополчение освобождались только «обучающиеся в учебных заведениях (что не соответствовало решению Комиссии, но соответствовало закону) и занимающие должности по гражданской и военной службе (30 июня на места был направлен специальный список должностей и инстанций). Если ратники являлись в призывные пункты по месту жительства, а не по месту приписки, то они зачислялись в контингент 36
ратников по месту явки. Учитывая религиозный характер войны, лица не христианского вероисповедания не принуждались к службе. В случае отказа их места должны были занять христиане. При медицинском освидетельствовании руководствовались правилами, установленными для новобранцев и наставлением, опубликованном в «Правительственном вестнике». На сборы передачу ратников и формулярных списков уездным воинским начальникам полагались не 28 , а 14 дней. Об итогах набора следовало уведомить губернское присутствие эстафетою, а где «есть телеграф – телеграммою», обязательно указывая сословную принадлежность и именные списки не явившихся ратников45.
Прошедшие 11-16 июля 1877 г. уездные по воинской повинности присутствия уточнили последние детали призыва ополченцев в своих уездах. В связи с небольшим числом ополченцев было решено остановиться на двух или, как в Сычевском и Духовщинском уездах, на одном возрасте (для призыва ратников «таких людей достаточно»). Уездные присутствия Смоленской губернии решили набирать ополченцев «младших возрастов»: 1875 и 1876 гг. воинского призыва, или 1854 и 1855 гг. рождения46. Но, как показали события, и эти списки были избыточны. В этом случае свою роль сыграли опасения, что часть ополченцев может не явиться на призывной пункт.
14 июля в Губернских ведомостях было опубликовано расписание очередей в 34 призывных участках губернии для освидетельствования ополченцев47.
Таким образом, в целом уездные власти и население были оповещены о порядке проведения набора в ополчение и ждали только объявления о призыве. В худшей ситуации было земство, которое не успевало выполнить, возложенную на него задачу по снабжению ополчения.
Указ Правительствующего Сената о созыве ополчения последовал 23 июля 1877 г. и в тот же день был направлен в губернии48. Начался первый по Уставу 1874 г. призыв ополченцев, который был завешен в очень короткие сроки, даже менее 14 дней – в самом начале августа.
А.Н. Энгельгардт наблюдал, как проходил набор ополченцев в Дорогобужском уезде Смоленской губернии: «Призыв бессрочноотпускных, призыв ополченцев – все это было совершено великолепно. Все было нашколено, дисциплинировано, и я думаю, что ни в одной стране, мобилизация не могла быть так быстро, так отчетливо, как у нас. Все было подготовлено заблаговременно, старшинам все было объявлено наперед ˂…˃. В свою очередь старшины нашколили старост, десятских. Все было подготовлено, в волостных правлениях постоянно дежурили сторожа, которые должны были развести приказы до ближайших деревень.
Сельские старосты знали всех бессрочных и ополченцев волости, кто, где находился, далеко отходить на заработки не позволялось»49.
В подготовительный период местной администрацией и земствами был проведена большая подготовительная работа, однако они не смогли сделать всего возможного главным образом из-за отсутствия сведений о численности ратников. После объявления и начала призыва главным препятствием для надлежащего исполнения ополченческого дела стал временной фактор.
Ополченцы являлись на призывные пункты, где проходили освидетельствование и частью сразу передавались в распоряжение уездных по воинской повинности присутствий, частью возвращались на несколько дней домой, а потом вновь призывались на участки. Ополченцы оставались в своей одежде из-за невозможности обмундировать их за короткий срок. Никакого специального обучения они не проходили (как это было в 1855 г.), поскольку предназначались для пополнения запасных частей, или по выражению А.А. Свечина – для «мобилизационных полевых работ»50. Но свое значение имел и фактор времени – уже вначале августа ратники направлялись «в свои части».
А.Н. Энгельгардт замечал: «если многих требовали понапрасну, а потом возвращали, то это уже была вина не сельских начальств. Мы не знаем – отчего не требовали поименно: вытребуют всех, а потом одних оставят, других отпустят. Иных раза по три требовали и затем вовсе оставили»51.
В действительности, при избытке ратников первого призыва возвращали лиц «по старшинству жребия», то есть в ратники записывали лиц младших возрастов. Такой порядок был установлен МВД, и оно требовало придерживаться последовательности «жеребьевых номеров»52.
Население находило такой порядок несправедливым, считая, что освобождение от призыва в ополчение должно распространяться на льготников, на тех, кто имеет отсрочку по семейному положению53. Если брали кормильца, то как замечал Энгельгардт, «семейство его останется без всяких средств к существованию и должно будет кормиться в миру, если не выйдет пособия»54.
Недовольство населения порядком призыва отмечалось и в других губерниях центральной России. Начальник Московского губернского жандармского управления доносил в III Отделение: «исполнение же призыва мерами, указанными МВД, повергло множество семей в отчаяние, лишив их единственных работников, поддерживающих их существование и угрожая им в будущем нищетой:
отсюда общий ропот негодования, выражающийся нередко в весьма резких формах»55.
Начальнику Калужского губернского жандармского управления, совершавшему поездку по Калужской губернии, пришлось «лично удостовериться в повсеместном возбужденном настроении общества и особенно крестьянского населения, вызванным призывом в число ратников льготных первого разряда по семейному положению, т. к. с призывом льготных образовалось по уездам значительное число крестьянских семей, лишенных возможности дальнейшего прокормления себя собственным трудом». При этом оставалась «еще масса ополченцев призыва 1874 и 1875 и даже 1876 года», не имевших «права на льготы»56.
Население было недовольно и временем набора в ополчение, совпавшим «с самою рабочею порой»57 и временным возвращением части призывников, которое крестьяне принимали «за ущерб», поскольку возвращаемые отказывались «уже работать, ссылаясь на скорое возвращение их на службу», и потому кормились «большей частью на общественные средства»58.
Недостатки организации призыва обострялись в связи с тем, что для новобранцев в армию сохранялись льготы по семейному положению, для ратников – нет59. С другой стороны, 25 июня 1877 г. вышел закон, по которому только семьи ратников и запасных, призывных на службу военное время, получали пособие. На семьи солдат действующей армии, «выступивших в поход», он был распространен дишь12 ноября 1877 г.
Однако недостатки призыва не поколебали патриотических настроений населения, которое, по мнению начальника Калужского губернского жандармского управления, расценивало призыв льготников «как ошибку какого-либо высшего административного учреждения ˂…˃ и выражалась полная безропотная готовность идти на защиту Престола и Отечества»60.
О преданности населения Смоленской губернии престолу в условиях войны постоянно рапортовал начальник Смоленского губернского жандармского управления генерал-майор Соколов61.
Хотя «ополчение утратило сословный характер с введением всеобщей воинской повинности»62, социальный состав ополченцев Смоленской губернии не изменился по сравнению с Крымской войной, оставаясь крестьянским, что объяснялось социальным составом жителей и сельскохозяйственным характером экономики губернии. Так, среди призванных ополченцев Дорогобужского уезда (186 человек) крестьяне составили 91, 4%. Из 160 ратников Юхновского уезда (всего 246 человек), о которых у нас имеются сведения, 157 являлись крестьянами и только три человека были мещанами63.
Обмундирование ратники получили из местного интендантства, поскольку, как говорилось выше, земство не успело закупить и изготовить необходимые предметы и обмундирование. Однако земство оплачивало эти расходы на основании шестилетнего авансного кредита Государственного казначейства64. Общая ситуация с обмундированием была неблагоприятной. Несмотря на большие расходы Военного министерства (в 1877 г. 33% к общей сумме расходов)65, «войска имели серьезные затруднения в получении вещевого довольствия в период войны 1877-1878 гг.»66
Ратники шли не на фронт, а в запасные части местных воинских частей. В Смоленской губернии ополченцев направляли в Смоленск, Дорогобуж и Вязьму, где дислоцировались местные запасные части. Уже 2 августа 1877 г., ранее двухнедельного срока, отведенного на призыв, началось передвижение ратников из уездных городов в места назначения, которое продолжалось до 12 сентября 1877 г.67
Если во время Крымской войны крестьяне перевозили ополченцев, направившихся в Бессарабию, за счет натуральной подводной повинности68, то в Русско-турецкую войну 1877 – 1878 гг. ситуация изменилась. Подводная повинность претерпела существенную реорганизацию. После земской реформы 1864 г. она была передана земствам. В Смоленской губернии ко времени войны, по данным председателя Смоленской губернской земской управы Н.А. Мельникова, подводная и дорожная натуральные повинности (постойная упразднена), «сократились более чем на две трети из-за перевода их в некоторых уездах в разряд денежных земских повинностей и по причине строительства железных дорог»69.
В Смоленской губернии передвижение ратников из уездных городов в Смоленск, Дорогобуж и Вязьму проходило не только по грунтовым, но и по железным дорогам. Большая нагрузка пала на линию Москва – Смоленск, открытую в 1870 г., на восточную часть железной дороги Москва – Брест. Например, 13 августа 1877 г. группа ополченцев из Сычевки (115 ратников из 245) двинулась в Дорогобуж, в 4-й запасной полк: «походным строем до Вязьмы, где состоялась дневка, а на следующий день по железной дороге Москва – Брест до ст. Александровка», расположенной недалеко от Дорогобужа. Ополченцы из Юхнова по Рижско-Вяземской железной дороге добрались до Вязьмы, а затем по Вяземско-Брянской дороге до той же станции Александровка70.
В запасные части, расположенные в Смоленской губернии, по железной дороге направлялись ратники из Дерпта (железные дороги Петербургско-Варшавская, Динабургско-Витебская, Орловско-Ви-тебская)71.
Таким образом, ополчение Смоленской губернии оставалось на территории губернии и в войне 1877 г.– 878 гг. не принимало участия. Несмотря на это, история ополчения 1877–1878 гг. сыграла свою роль в развитии законодательств об ополчении в России, которые учитывало уроки Русско-турецкой войны.
***
Опыт «использования ополченческих кадров во время и после войны показал необходимость радикального преобразования ополчения»72. Однако до 1888 г. отсутствовали сборы ополченцев и их боевая подготовка. В 1888 г. стали набирать ратников второго разряда и приступили к обучению ополченцев в летнее время73. До 1911 г. на земство возлагалось снабжение ополчения всеми предметами обмундирования и снаряжения, устройство обоза, снабжение всеми хозяйственными принадлежностями, аптеками. Только по закону 1 марта 1911 г. все расходы на ополчение взяло на себя государство74 . Но в течение долгих лет земство держало смету на ополчение, закупало обмундирование, устраивало склады, заключало договоры с поставщиками, брало кредиты, создавало специальные капиталы75.
Обязанности по ополчению, с одной стороны, расходились с обязанностями земства как местной хозяйственной единицей и порождали на местах множество бюрократических процедур; с другой – они не влияли на подготовку ополченцев.