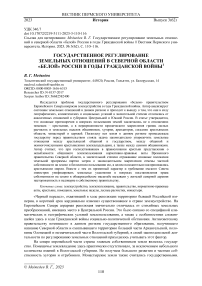Государственное регулирование земельных отношений в северной области "белой" России в годы гражданской войны
Автор: Медведев В.Г.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Становление советской социально-политической системы
Статья в выпуске: 3 (62), 2023 года.
Бесплатный доступ
Исследуется проблема государственного регулирования «белым» правительством Европейского Севера вопросов землеустройства в годы Гражданской войны. Автор анализирует состояние земельных отношений в данном регионе и приходит к выводу о том, что они в силу географических, климатических и социальных условий в значительной степени отличались от аналогичных отношений в губерниях Центральной и Южной России. В статье утверждается, что основные противоречия в вопросах пользования землей заключались не в отношениях помещик - крестьянин, а в неразрешенности юридического закрепления границ лесных расчисток и земельных наделов общинников, хуторян, арендаторов, соседних крестьянских обществ, монастырей и церквей. Поскольку вся земля в данном регионе принадлежала государству перед правительством стояла задача законодательно упорядочить земельные отношения между крестьянской общиной и государством, между общиной и немногочисленными крестьянскими землевладельцами, а также между самими общинниками. Автор считает, что при господствовавшем в правосознании крестьян представлении о незыблемости общинного землепользования нормативно-правовые акты Временного правительства Северной области, в значительной степени отражавшие основные положения земельной программы партии эсеров о законодательном закреплении отмены частной собственности на землю и бесплатном пользовании ею, в целом положительно воспринимались крестьянским миром. Вместе с тем их временный характер и требование омского Совета министров унифицировать земельные узаконения в вопросах восстановления права собственности на землю в общероссийском масштабе вызывали у жителей северной деревни настороженность и недоверие к собственному правительству.
Землеустройство, землепользование, правительство, нормативно-правовые акты, крестьяне, помещики, земельные наделы, лесные расчистки, монастыри
Короткий адрес: https://sciup.org/147245310
IDR: 147245310 | УДК: 346.7 | DOI: 10.17072/2219-3111-2023-3-110-116
Текст научной статьи Государственное регулирование земельных отношений в северной области "белой" России в годы гражданской войны
«Черный передел», охвативший в ходе революции территорию бывшей Российской империи, в короткий срок кардинально изменил существовавшее в стране землеустройство. На Европейском Севере аграрная революция значительно отличалась от стихийных земельных преобразований, имевших место в Центральной России. Это было связано со спецификой климатических и географических условий землепользования, а также с особенностями сложившейся здесь в ходе Гражданской войны социально-политической обстановки. Антисоветскому правительству возникшего в данном регионе государственного образования, получившего название Северной области и охватывавшего территорию большей части Архангельской, половины Олонецкой и незначительной части Вологодской губерний, в своей законодательной деятельности по регулированию земельных отношений приходилось учитывать этот фактор.
На севере европейской части страны главным собственником земли являлось государство. Помещичье землевладение здесь практически отсутствовало, за исключением небольшого количества имений в Вологодской губернии. Не получила большого развития и частная собственность хуторян и отрубников. Монастырские земли также считались государственными.
Таким образом, основные конфликты в ходе аграрной революции возникали в данном регионе между крестьянской общиной и государством, между общиной и немногочисленными крестьянскими землевладельцами. Кроме того, не менее острые земельные споры наблюдались и между самими общинниками.
Данные поземельной переписи 1917 г. показывают, что в Олонецкой губернии частновладельческие земельные участки по своей площади в несколько раз превышали размеры надельных земель общинников. Соотношение составляло примерно 1250 к 37 десятинам. Иное землеустройство сложилось в покрытой лесом Архангельской губернии: здесь частные и общинные размеры земельных участков были значительно меньше и равнялись примерно четырем с половиной десятинам у частников и пяти десятинам у общинников, в результате чего и те, и другие страдали от малоземелья (Поуездные итоги…, 1923, с. 74–77). Такое распределение земель, казалось бы, не должно было приводить к острым конфликтам между обладателями этих двух категорий земель. По сравнению с центральными регионами страны, в Олонецкой губернии в пользовании крестьян-общинников находились достаточно большие земельные участки, а в Архангельской губернии и частники, и общинники располагали примерно равным количеством земли. Однако крестьянский менталитет был привержен принципу общинного землепользования, и деревня крайне отрицательно относилась к частным домохозяйствам. Нарушение в ходе революции существовавшего правопорядка открывало крестьянской общине путь для захвата частнособственнических угодий, что порой сопровождалось кровавыми столкновениями с хуторянами и отрубниками.
В крестьянском правосознании земельные захваты имели вполне легальную основу. В период советской власти, просуществовавшей в данном регионе до августа 1918 г., до северной деревни доходили сведения о том, что еще в мае 1917 г. I Всероссийский съезд советов крестьянских депутатов положительно встретил 242 крестьянских наказа о законодательном закреплении результатов «черного передела». Позднее, 26 октября 1917 г., на основе этих наказов II Всероссийский съезд советов принял Декрет о земле, а 5 января 1918 г. члены Учредительного собрания проголосовали за аналогичный земельный закон (Примерный наказ о земле, 1917; Декрет о земле, 1917; ГАРФ. Ф. Р-749. Оп. 1. Д. 16. Л. 9–9 об.). Все эти нормативные акты провозглашали отмену частной собственности на землю. В связи с этим требование крестьян о передаче частновладельческих земель, живого (скота) и мертвого (сельхозорудий) сельхозин-вентаря, а также казенных лесов в безвозмездное пользование сельских общин имело достаточно выраженную правовую основу, что вылилось в стихийные земельные захваты и вырубку лесов под пашню.
Временное правительство Северной области (ВПСО), пришедшее на смену советской администрации в данном регионе, при очевидной своей слабости оказалось неспособным предотвратить данные явления. Вместе с тем, по мнению В. И. Саблина, масштаб и ожесточенность этих действий здесь были значительно меньше, чем в губерниях Центральной и Южной России, особенно в отношении захвата помещичьих земель и инвентаря, который затронул не более полутора десятков имений [ Саблин , 2016, с. 23]. На основании этого он делает вывод о том, что противостояние между помещиками и крестьянами в Северной области не было острым. В определенной степени с таким заключением можно согласиться, поскольку хозяйство северного крестьянина, как правило, было основано не только на земледелии, но и на промысловых занятиях, и нередко последние играли более важную роль в обеспечении средств существования крестьянской семьи. Однако главной причиной незначительного количества погромов помещичьих хозяйств, как представляется, следует считать неразвитость такого типа землевладения в данном регионе.
В Северной области основные конфликты возникали между соседними общинами и отдельными хозяевами внутри них, а также между монастырями и жителями окрестных сел и деревень. Причиной этого было отсутствие межевания земель. В отличие от центральных губерний страны, после крестьянской реформы 1860-х гг. на севере оно не проводилось вплоть до начала Первой мировой войны, и границы крестьянских наделов на казенных землях не были установлены и юридически закреплены за сельскими обществами. В ходе войны проведение землемерных работ оказалось невозможным, и они были отложены до лучших времен. Это давало возможность землепользователям уклоняться от налогов и пошлин, а крестьянской общине – делать «прирезки» к своим землям за счет казны, монастыря или соседних общин. Внутри самих сельских обществ также происходила коррекция границ наделов по уравнительному принципу, вызванная дополнительным притоком в деревню из городов отходников, возвращением с войны солдат и ростом количества вдовьих хозяйств (История северного крестьянства, 1985, с. 290).
Однако следует отметить, что в целом передел земли в северных деревнях и селах не носил всеобъемлющего характера. Он затрагивал не белее 20–25 % пригодного к обработке земельного фонда [ Саблин , 2002, с. 285]. Крестьяне надеялись на достаточно либеральную государственную власть, установившуюся в Северной области, ожидая от нее законов о предоставлении им казенных земель и лесных угодий для производства вырубок под распашку. Иллюстрацией этому служит выступление одного из гласных Архангельского губернского земства на сентябрьском заседании земского собрания 1918 г., который поведал, что сельские жители в ожидании разрешения земельного вопроса государственной властью не стремятся к масштабным земельным захватам, ограничиваясь «поравнениями» имеющихся у них надельных участков [ Новикова , 2011, с. 86].
Временное правительство Северной области (ВПСО) стремилось, насколько это было возможно, удовлетворить ожидания крестьян, поэтому, в отличие от земельных законов, принимавшихся в других государственных образованиях «белой» России, законодательство данного государственного образования отличалось определенным радикализмом и социальной направленностью. Во многом это объяснялось тем, что значительная часть правительства состояла из эсеров и энесов, приверженных правовой политике Временного правительства в данном вопросе. Кроме того, в волостных и уездных земствах, земельных комитетах, кооперативных организациях, не говоря об оставшихся в некоторых местностях крестьянских советах и других общественных организациях, также преобладали эсеры, большинство из которых были выходцами из крестьян. Они пользовались доверием жителей северной деревни, поскольку стремились к проведению в жизнь программных установок своей партии о социализации земли.
Однако ВПСО не было свободно в выборе способов правового регулирования земельных отношений. Вынужденное признать верховенство Российского правительства адмирала Колчака, оно должно было согласовывать свои нормативно-правовые акты с законами омского Совета министров. В «Вестнике ВПСО» и других архангельских газетах стали появляться постановления Российского правительства, обладавшие юридической силой и на территории Северной области. Однако специфика землеустройства и землепользования в данном регионе затрудняла их применение, а более демократичная форма правления позволяла правительству использовать более радикальные, чем в «белой» Сибири, законодательные меры в регулировании земельных отношений.
Задача по разработке аграрного законодательства и осуществлению соответствующего администрирования в деревне была возложена на Отдел земледелия, который с августа 1918 г. входил в состав Верховного управления Северной области (ВУСО), а с октября – в структуру ВПСО. При отделе земледелия Постановлением правительства от 20 ноября 1918 г. учреждалось Совещание «для разработки вопросов землевладения и землепользования», законодательные предложения которого должны были утверждаться управляющим Отдела земледелия или правительством (Об учреждении при Отделе земледелия…, 1919, с. 8–9). Отличительной особенностью разрабатываемых им законопроектов являлось то, что законодатель умалчивал о восстановлении права собственности на землю, как это делалось другими «белыми» правительствами. Вместе с тем ничего не говорилось и о его ликвидации. На основании этого можно сделать вывод о временности и неопределенности законодательства, но это вызывало в местном крестьянском мире надежды на благополучное разрешение их земельных проблем, поскольку принимавшиеся в первой половине 1919 г. нормативно-правовые акты во многом носили социальную направленность.
Наиболее актуальным для жителей северной деревни стало принятое правительством 13 января 1919 г. Постановление «О расчистках в Архангельской губернии» (О расчистках в Архангельской губернии, 1919, с. 9–11). В ст. 1 и 2 этого документа говорилось о передаче расчисток из ведения Управления государственных имуществ земствам. При этом на них ложились все обременения, в основном в виде аренды, в соответствии с ранее принятыми обязательствами перед казной. В случае неисполнения обязательств или при возникновении государственной надобности расчистки могли быть возвращены в государственный фонд.
При этом в ст. 3 пользователям предоставлялись определенные льготы. Независимо от того, были ли расчистки оформлены документально или нет, если хозяйствующий субъект фактически пользовался ими в течение 40 и более лет, они автоматически переходили в его наследственное пользование. Ст. 10 устанавливала предельную норму площади расчистки в размере одиннадцати десятин.
Предоставление расчисток предусматривало их целевое использование в виде ведения на них сельского или смешанного с ним промыслового хозяйства, которое должно было выступать «единственным источником существования» землевладельца и его семьи. В ст. 9 законодатель предусматривал право передачи расчистки его владельцем другому лицу по согласованию с волостным земством. Несоблюдение данных условий влекло за собой изъятие расчищенного лесного надела у хозяйствующего субъекта и передачу его в волостной фонд.
В ст. 5 волостным земствам предоставлялось право по взиманию особого сбора с владельцев расчисток, у которых истекал 40-летний срок пользования ими. Размер сбора не должен был превышать размер средней арендной платы за последние три года. Кроме того, согласно ст. 7, на волостные земские управы возлагалась изъятая из ведения судебных органов функция по разрешению всех споров о расчистках. Стороны, не удовлетворенные постановлениями волостного земства, могли их обжаловать в уездном или губернском земстве. Споры по поводу границ расчисток между волостными земствами одного уезда подлежали рассмотрению в уездном земстве. В губернском земстве разрешались споры между уездными земствами или волостными и уездными земствами разных уездов.
В целом принятие постановления «О расчистках» благотворно сказалось на разрешении запутанных земельных отношений, что в определенной степени снизило накал социальной напряженности в северной деревне, однако не устранило ее полностью. Члены сельской общины не теряли надежды переделить расчищенные площади казенных лесов, изъяв их у арендаторов.
Помимо регулирования отношений, связанных с пользованием лесными расчистками, правительство вынуждено было решать вопросы традиционных земельных отношений. В связи с этим 19 февраля 1919 г. было принято Постановление «Об оброчных статьях», в котором законодатель устанавливал основания и правила пользования сельскохозяйственными угодьями на казенных и бывших удельных землях на территории Северной области (Об оброчных статьях, 1919, с. 14–16). Данный нормативно-правовой акт носил временный характер – «до разрешения земельного вопроса в полном объеме» будущим Учредительным собранием, о чем говорилось в его преамбуле. По своему содержанию он практически копировал все основные положения постановления «О расчистках», по аналогии с которым все вопросы землевладения и землеустройства передавались в ведение земств вместе со всеми обязательствами перед казной, принятыми на себя бывшим Удельным ведомством и Управлением государственных имуществ.
В ст. 3 данного постановления, как и в нормативном акте о расчистках, говорилось, что «вненадельные» оброчные статьи, переданные арендаторам под сельхозугодья или промысловые занятия и не превышавшие по размеру 11 десятин, оставлялись в пользовании их самих или их наследников, несмотря на истечение срока аренды. При этом указывалось на непременное условие владения участком: земля должна была являться единственным средством существования семьи арендатора. Порядок разрешения земельных споров между домохозяевами и определение размеров накладываемых на них земельных сборов устанавливались по аналогии с Постановлением о расчистках.
Земельные оброчные статьи, согласно ст. 5–9, касавшиеся надельных земель, приписывались к тому волостному земству, на территории которого они находились со всеми вытекаю- щими из этого юридическими последствиями. Волостное земство обязано было предоставлять сельскохозяйственные угодья в пользование как отдельным лицам, так и обществам и товариществам из расчета не свыше 11 десятин на каждого «домохозяина или домохозяйку». При необходимости оно было вправе лишить пользователя предоставленного участка, но при этом «обязано было вознаградить потерпевшего». С согласия волостного земства допускалась также передача надела другому пользователю.
Таким образом, положение «Об оброчных статьях» по своей социальной направленности значительно отличалось от аналогичных нормативно-правовых актов, издававшихся в других государственных образованиях «белой» России. Учитывая специфику землеустройства, сложившегося в северной деревне, оно в определенной степени сдерживало рост социального напряжения в крестьянском мире и вызывало у сельских жителей надежду на справедливое разрешение земельного вопроса в недалеком будущем.
Этому способствовало и принятие 4 апреля 1919 г. Постановления ВПСО «О земле», касавшееся порядка использования казенных земель, оказавшихся во владении архиерейского дома, монастырей, церквей и причтов ( Пионтковский , 1925, с. 290–291). С помощью данного нормативно-правового акта правительство рассчитывало упорядочить вопросы землепользования церковными организациями и тем самым значительно снизить накал земельных конфликтов между ними и крестьянскими общинами. Как и в предыдущих земельных узаконениях, все церковные земли передавались в ведение волостных и уездных земств (ст. 1, 2). Священнослужители и служащие церковного притча – священники, дьяконы, псаломщики, клирики и прочие – в вопросах землепользования уравнивались в правах с крестьянами и должны были обеспечиваться землей в соответствии с установленными в волости нормами земельных наделов. Наделение земельными участками служителей церкви должно было осуществляться на основе заключенного соглашения между приходским собранием и земством. В примечании к ст. 2 говорилось, что церковные усадьбы и кладбища, также земли внутри церковных оград должны оставляться в ведении причта.
Монастырям законодатель предоставлял только такое количество земель, которое могло быть обработано силами монастырской «трудовой земельной общины» для обеспечения ее существования. Помимо этого, в ст. 4 указывалось, что за монастырями оставлялись земли с организованным на них развитым хозяйством, имевшим большое «культурное и экономическое значение». Земли архиерейского дома также подлежали передаче земствам, за исключением той их части, которая была необходима для поддержания существования духовенства и служащих этого церковно-административного учреждения (ст. 5). Поскольку монастырские и архиерейские владения могли располагаться на территории нескольких волостей, то право распоряжения ими передавалось уездному земству. Согласно ст. 8, размеры передаваемых монастырских и епархиальных земель и сам порядок передачи определялись Особой комиссией из правительственных чиновников Отдела земледелия, представителей Епархиального управления и уездной земской управы.
Таким образом, аграрное законодательство в Северной области по своей социальной направленности выгодно отличалось от земельных законов других «белых» государственных образований. Вместе с тем оно имело существенный недостаток. Правительство не предприняло никаких шагов в целях создания необходимых подзаконных актов (инструкций) по толкованию принятых постановлений и разъяснению конкретного порядка действий земских и государственных органов власти. В результате их применение было отдано на усмотрение местных властей, которые своими неквалифицированными решениями вносили неразбериху в распределение земель. Это, по свидетельству военного прокурора Северной области, вызывало непре-кращавшиеся споры как между соседними сельскими сходами, так и между общинниками внутри них, а также между земствами, крестьянскими общинами и монастырями, арендаторами земельных участков и их «захватчиками», новыми и прежними владельцами расчисток [ Добровольский , 1921, с. 92].
Вместе с тем С. Добровольский на основе результатов допросов повстанцев сделал вывод о том, что крестьяне в целом были довольны принятыми земельными узаконениями. Поддер- живая большевиков, повстанцы выдвигали к ним требование не менять установленный ВПСО порядок землевладения и землепользования на севере страны [Там же, с. 127]. Такие настроения крестьян можно вполне объяснить: правительственные постановления были направлены на фактическое ограничение частной собственности на землю, что выражалось в секуляризации церковных владений и запрете на торговлю землей. Кроме того, на данном этапе крестьяне получили право бесплатного пользования казенными и церковными землями и надеялись на закрепление этого положения будущим Учредительным собранием.
Однако временный характер правительственных постановлений и опасение введения на территории Северной области земельных законов колчаковского правительства, публиковавшихся в архангельских газетах, вызывали у сельских жителей неуверенность в завтрашнем дне и недоверие к собственному правительству. Особое беспокойство и волну новых споров в крестьянском мире вызвало обнародование в апреле 1919 г. Декларации о земле Верховного правителя с требованием возвращения «трудовым хозяевам» захваченных у них земель (Декларация о земле, 1919).
Таким образом, несмотря на определенную социальную направленность, правовая политика ВПСО в сфере землеустройства и землевладения в целом не достигла своей цели по разрешению земельных конфликтов и успокоению северного крестьянства. Сложность применения принятых узаконений, вынужденная ориентация на законы Российского правительства и временность принятых нормативно-правовых актов не могли в полной мере удовлетворить ожидания крестьян. Кроме того, невзирая на определенные положительные черты, земельное законодательство ВПСО не в состоянии было конкурировать с советским Декретом о земле.
Список литературы Государственное регулирование земельных отношений в северной области "белой" России в годы гражданской войны
- Добровольский С. Борьба за возрождение России в Северной области // Архив русской революции. Т. 3. Берлин: Слово, 1921. С. 5-146.
- Новикова Л.Г. Провинциальная "контрреволюция": Белое движение и Гражданская война на русском Севере, 1917-1920. М.: Новое литературное обозрение, 2011. 377 с. EDN: QPUBZR
- Саблин В.А. Земельные органы в северной деревне в период аграрной революции 1917-1918 гг. // Вестник Вологод. гос. ун-та. Гуманитарные, общественные, педагогические науки. 2016. № 1(1). С. 18-24.
- Саблин В.А. Аграрная революция на Европейском Севере России. 1917-1921 (Социальные и экономические результаты). Вологда: Легия, 2002. 344 с. EDN: YOLYRE