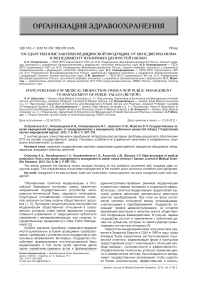Государственные закупки медицинской продукции: от менеджериализма к менеджменту публичных ценностей
Автор: Островский А.Н., Новокрещенов И.В., Новокрещенова И.Г., Аранович Л.М., Морозов В.П.
Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj
Рубрика: Организация здравоохранения
Статья в выпуске: 3 т.8, 2012 года.
Бесплатный доступ
С учетом данных отечественной и зарубежной литературы рассмотрены проблемы ресурсного обеспечения ЛПУ на основе государственного заказа. Показаны особенности управления закупками в современных социально-экономических условиях.
Медицинское оборудование, менеджериализм, менеджмент публичных ценностей, модернизация здравоохранения, управление государственными закупками
Короткий адрес: https://sciup.org/14917607
IDR: 14917607
Текст научной статьи Государственные закупки медицинской продукции: от менеджериализма к менеджменту публичных ценностей
1Объявленная политика модернизации в Российской Федерации коснулась самых различных направлений государственного устройства: материально-технической базы, кадрового потенциала, структурных составляющих стратегических отраслей, включая систему охраны общественного здоровья [1, 2]. Пусковым концептуальным инструментом модернизации общественных отношений в современных условиях стала смена парадигмы государственного управления: от традиционного публичного управления к менеджериализации, или «новому государственному менеджменту» (New Public Management) [3].
Особое значение приобрело совершенствование институциональных условий проводимых преобразований, приведшее к усилению роли государства в трех основных направлениях. Во-первых, государство способствует формированию институциональной базы модернизации, в том числе путем принятия целой серии нормативно-правовых актов и формирования
административно-правовых режимов модернизации в различных сферах экономики и социальной сферы. Во-вторых, политика модернизации предполагает высокий уровень автономии деятельности различных агентов преобразований. При этом на фоне усложнения системы отношений между организациями, участвующими в преобразованиях, государство сокращает прямое администрирование, но остается важнейшим фактором в качестве агента общественной координации взаимодействий. В-третьих, задача государства состоит в привлечении к публичным делам тех субъектов, которые по своей природе ориентированы на частные интересы [4].
Идеология менеджериализма получила свое развитие в Западной Европе и США в 1980-е годы, когда впервые была предложена реструктуризация социальной политики, модернизация форм и принципов предоставления услуг с апелляцией к «большей свободе выбора», «экономичности и эффективности». Управленческие технологии, успешно применяющиеся в коммерческом секторе, были внедрены в менеджмент государственных организаций, чтобы сделать их более экономичными, эффективными и резуль- тативными [5]. Данные процессы распространились прежде всего на сферу социально значимых услуг, в том числе здравоохранение.
Деятельность по образу и подобию бизнеса — путем постоянной борьбы за все большую эффективность — заменила использовавшиеся ранее принципы менеджмента на основе бюрократического профессионализма. Согласно австралийскому исследователю М. Консайдину (1988), менеджериализм в государственном управлении отличают следующие четыре характеристики: 1) акцент на измеримых результатах и выпуске продукции; 2) управленческий инструментализм, означающий, что государственная политика разрабатывается главами министерств и ведомств, а затем реализуется подчиненными департаментами; 3) интеграция, т.е. высокая степень координации, согласованности и связанности между различными правительственными департаментами; 4) гарантия общих целевых установок в деятельности правительственных служб [6]. По мнению израильского социолога М. Маора (1999), внедрение менеджериалистских принципов в государственную службу привело к распространению идеологии экономизирования как базового подхода к государственному управлению [7].
Ведущим и наиболее известным компонентом новой парадигмы государственного управления стало упорядочение системы конкурсных закупок для государственных нужд, как одной из основ упомянутой идеологии экономии ресурсов. Масштабы государственных и муниципальных закупок в современных странах смешанной экономики достаточно значительны и колеблются в среднем в пределах от 10 до 25% ВВП для отдельно взятых стран [8]. Важно подчеркнуть, что обычно подавляющая часть подобных закупок производится у негосударственных предприятий, функционирующих как рыночные субъекты исключительно в поле менеджериализма. Основанием для реализации этого принципа служит уверенность в сравнительно более высокой эффективности предприятий частного сектора относительно предприятий «государственного подчинения». Второй принцип, закладывающийся в основу осуществления подобных закупок, предполагает распространенное использование специальных конкурсных процедур, регламентированных в нормативно-законодательном порядке и обязательных при размещении госзаказа [9, 10]. К настоящему времени мировая практика выработала в целом устоявшиеся формы подобных процедур. Регламент таких процедур ставит фирмы, участвующие в них, в равные условия перед государственными заказчиками — организаторами конкурсов. В частности, провозглашаются принципы открытости (гласности), общего порядка информирования для всех участников, одинаковых условий участия для них и т.д. В результате создается разновидность квазирынка — следствия искусственного введения рыночных отношений в сфере, в которой естественное развитие рынка по тем или иным причинам невозможно, с целью повышения общей эффективности производства ( распределения ) товаров ( услуг ) за счет конкуренции между участниками рыночных отношений. В рамках конкуренции претендентов на заключение государственных контрактов государственные структуры имеют возможность выбирать более выгодные условия сделок [11].
Одним из ключевых, но неоднозначно толкуемых понятий, раскрывающих процесс менеджериали-зации, выступает децентрализация полномочий в сфере использования финансовых, материальных и человеческих ресурсов путем перераспределения власти к большему числу лиц, включенных в тот или иной вид деятельности [12, 13]. Иными словами, как отмечают П. Тейлор-Губи и Р. Лоусон (1993), в новых условиях происходит переориентация с традиционной пирамидальной бюрократической структуры, построенной по принципу «верх-низ», к отношениям по принципу «центр-периферия». В таких отношениях за центром сохраняются такие функции, как стратегическое планирование, определение стратегии, установление целей и стандартов, координация и общий бюджетный контроль [14].
Внедрение принципов менеджериализма в практику государственного управления имеет прямое отношение и к российскому здравоохранению, процессы модернизации которого в 2011-2012 гг предполагают стать самой масштабной акцией по улучшению уровня материально-технического оснащения и структурной реорганизации отрасли за несколько последних десятилетий [15, 16]. Кстати, текущая реформа отечественной системы охраны общественного здоровья не является российским ноу-хау. В западном мире система здравоохранения традиционно является важной сферой для проведения модернизации [17, 18]. Менеджериализм, маркетизация и более устойчивое государственное управление, наряду с участием потребителей услуг в процессе принятия решений, в настоящее время служат основными ориентирами реформы здравоохранения в разных странах [19, 20].
Российские реформы здравоохранения прошли путь от административных преобразований, приведших к разделению правоустанавливающих и надзорных функций в управлении отраслью, децентрализации управления до масштабной программы материально-технического оснащения, повлекшей за собой мероприятия по обоснованию потребности в закупаемой продукции, публичном размещении заказа и проведения конкурсных процедур [21, 22]. В соответствии с основными принципами «нового государственного менеджмента» в процессах материально-технического оснащения здравоохранения принимают участие предприятия различных форм собственности на условиях продекларированного равного доступа до участия в конкурсах. В итоге на почве практической реализации принципов менедже-риализма возникает взаимодействие двух отдельных систем: системы государственного (муниципального) здравоохранения, вступившей на путь менедже-риализации, и медицинского бизнеса, традиционно развивающегося в рамках менеджериальной этики. Данное взаимодействие представляет существенный интерес с точки зрения этических принципов организации системы охраны общественного здоровья, предполагающих главенство принципов преимущества интересов пациентов [23].
Сторонники менеджериализма предъявляют целый ряд аргументов в его защиту, обоснованных повышением экономической эффективности организаций, сокращением расходов и более гибким реагированием на потребности рынка. Критики данной концепции считают менеджериализм гегемониче-ским проектом, который игнорирует важность этических ценностей — автономии, равенства, уважения, заботы, доверия и рефлексивности — в пользу узко определенных экономических приоритетов организации [24]. Такие трансформации системы при ограничении ресурсов, по мнению некоторых авторов, способны привести к новым проблемам, связанным, в частности, с динамикой отношений власти и общества. Последние претензии отчасти актуальны для отечественного здравоохранения в сфере практической реализации механизмов ресурсного обеспечения отрасли, прежде всего при решении вопросов обоснования потребности, при делегировании полномочий государственного заказчика и принятия ответственности за целевое расходование денежных средств [25].
Российскую технологию принятия организационных решений на фоне децентрализации может хорошо проиллюстрировать британский опыт, описываемый Лэнгэном и Кларком (1994). По их мнению, «в условиях менеджериализма взаимодействие институциональных ресурсов и институциональных потребностей все более напоминает игру «передай кошелек»: первый игрок (правительство) утверждает, что свои задачи выполнил и теперь от муниципалитетов зависит эффективное и рациональное использование ресурсов; местное самоуправление, стеная по поводу недоукомплектованного персонала, все же руководит распределением ресурсов, устанавливает приоритеты и критерии доступа к ним и передает сжавшийся кошелек менеджерам низшего звена, которые, вне сомнения, чувствуя себя неважно в отношении того, как с ними поступили в процессе распределения ресурсов, передают бюджет менеджерам более низкого иерархического уровня, которые, ругая вероломство всех вышестоящих начальников, делают выбор в отношении того, какие потребности и каким образом необходимо удовлетворить» [26]. Как результат, процесс децентрализации власти не только отодвигает принятие решений относительно распределения ресурсов и определения потребностей на «передний фронт», но и переносит большую часть ответственности на тех, кто участвует в преодолении разрыва между потребностями и ресурсами [27].
В рамках представленной иерархии властных полномочий происходит функционирование системы принятия решений о тактике материально-технического и лекарственного обеспечения отечественного здравоохранения [28]. Таким образом, согласно идеологии заявленной демократизации государственной системы ответственность за выбор типов, моделей и технических характеристик медицинской техники, лекарственных средств и изделий медицинского назначения ложится на практикующих врачей, в лучшем случае — отраслевых главных специалистов, в основной массе — заведующих отделениями, руководства ЛПУ, порой — рядовых врачей. Необходимо отметить, что данные решения принимаются в условиях характерного для рынков медицинской продукции расщепления функции потребителя: когда выбор закупаемого продукта, его оплату и использование осуществляют зачастую разные контрагенты. При этом все перечисленные процедуры должны осуществляться во благо третьего лица — пациента [29].
В сложившейся системе принятия решений и проведения конкурсных процедур врачи встают перед необходимостью:
-
— определения конкретной (или нескольких) модели медицинской техники (лекарственного препарата) или базовых требований к продукции, планируемой к закупке;
-
— обоснования данной потребности с позиций клинической необходимости на соответствующем уровне системы оказания медицинской помощи и предполагаемой эффективности использования;
-
— создания технического задания на продукцию, планируемую к закупке.
Безусловно, нельзя не отметить потенциальную продуктивность реализации данного следствия идеологии децентрализации, «cпускающего» практические решения до уровня конкретного исполнителя, наиболее осведомленного о реальной потребности отрасли в той или иной продукции. Однако на практике залогом эффективной реализации данного подхода является отсутствие конфликта интересов — возможного коррупционного риска — со стороны лиц, принимающих решения. Значимость рисков криминальных последствий деятельности, направленной на материально-техническое обеспечение здравоохранения, подтверждается практикой последних лет [30, 31].
Кроме того, подобное возложение ответственности на врачей предполагает наличие их достаточной компетенции в сфере знаний новинок медицинских технологий, несколько выходящих за рамки общедоступных интернет-сайтов. Исследование же профессиональной компетентности и роли врачей-специалистов в обеспечении ЛПУ медицинским оборудованием, особенностей доступа врачей до профессиональной информации не позволяет сделать вывод о наличии достаточной информированности последних о новинках в области медицинских технологий [32].
Можно предположить, что существующая профессиональная квалификация и осведомленность медицинских работников не достаточны для того, чтобы на высоком уровне подготовить технические задания и конкурсную документацию. Между тем высокий методический уровень технических заданий на медицинскую технику, закупаемую в рамках программы модернизации здравоохранения регионов РФ, может свидетельствовать о том, что столь квалифицированная подготовка документации могла быть осуществлена только специалистами, хорошо знакомыми с техническими нюансами оборудования. Подготовка конкурса на закупку лекарственных средств при отсутствии высококвалифицированного госпитального клинического фармаколога также вызывает необходимость внешних квалифицированных консультаций. Участие экспертов, представляющих интересы коммерческих организаций, занимающихся продвижением и реализацией данной продукции, традиционно является одним из непубличных вопросов технологии организации и проведения конкурсов [33].
Безусловно, факты подобных взаимоотношений между заказчиками и потенциальными участниками конкурса противоречит действующему законодательству, но является вынужденной мерой, обусловленной существующими требованиями законодательства и неспособностью заказчика самостоятельно сформулировать технические требования к медицинской продукции, планируемой к закупке [34].
Отдельный вопрос вызывает формирование цены на медицинскую технику. Если на рынке лекарственных средств ценообразование является достаточно прозрачным процессом, то на стоимость медицинского оборудования оказывает влияние большое количество составляющих: комплектация, условия доставки, монтажа, длительность гарантийного обслуживания. Принимая во внимание широкий диапазон ценовых показателей на данные составляющие конечной отпускной цены, любая попытка официальной регистрации каких-либо цен на медицинскую технику заведомо предполагает наличие ошибки. В связи с тем, что цена на сложное медицинское оборудование является уникальной, данный аспект дает возможность для злоупотреблений путем введения заказчика, конкурсной комиссии и контролирующих органов в заблуждение относительно ценообразования. Безусловно, и в данном случае, основываясь на имеющихся в открытом доступе данных, сотрудники ЛПУ не способны самостоятельно, без консультации с представителями медицинского бизнеса, адекватно определить цену на продукцию, планируемую к закупке [10, 35]
Пересечение интересов системы здравоохранения и медицинского бизнеса приводит к необходимости изучения представителей последнего с позиций менеджериализма. Деятельность же коммерческих организаций, традиционно работающих в поле ме-неджериальной практики, направлена на максимизацию собственной прибыли посредством продвижения и реализации своих целей и задач. Эти цели и задачи отнюдь не проистекают из национальных или социальных целей и задач [36]. Менеджериальная перспектива декларирует, что в социальном управлении огромное значение приобретают множества больших и мелких трансакций, которые предпринимаются индивидуально, в неведении о последствиях социального управления [36]. В этом случае возникают две проблемы: во-первых, решения, принимаемые с позиций менеджериализма, могут оказаться этически сомнительными и, во-вторых, менеджери-алистские методы управления во многих аспектах нарушают демократические принципы принятия решений, которым обычно следуют в общественном секторе.
В данном случае при недостаточной профессиональной информированности врачей в ходе предоставления информации представителями медицинского бизнеса в угоду собственным коммерческим целям возникает высокая вероятность намеренного введения заказчика в заблуждение относительно запрашиваемых свойств продукции в части полноты предлагаемой спецификации, существующего уровня цен, соответствия продукции клинической необходимости и адекватности соответствующему уровню оказания медицинской помощи [34].
Кроме того, необходимость подготовки технических заданий с усредненными характеристиками вынуждает заказчика отходить от первоначальных запросов к более дешевым, но зачастую неадекватным по своим качественным характеристикам аналогам, дает возможность выигрывать конкурсы поставщикам, предлагающим продукцию, ориентированную на более низкий качественный уровень, но входящий в диапазон рассматриваемых усредненных характеристик. Отмечающаяся в последние годы выраженная активность Антимонопольной службы по надзору за проведением конкурсов, выявлению случаев преференции конкретным поставщикам и производителям приводит зачастую к невозможности заказчика отстоять свой выбор закупаемой продукции, необходимости заключать контракты на поставку продукции заведомо более низкого уровня, нежели запрашиваемая [30].
Приходится признать, что создаваемая конкурсная ситуация между продукцией с заведомо известными и близкими характеристиками, часто выпускаемой одним производителем, но поставляемой разными компаниями, носит черты упомянутого уже квазирынка, характерного для «нового государственного менеджмента» — квазирынка госзакупок, кото- рый в значительной степени защищен от произвола бюрократии. Это значит, что конкурсный механизм позволяет гораздо более объективно осуществлять отбор эффективных поставщиков, причем эффективность в данном случае подразумевает возможность прежде всего выбирать в качестве исполнителей госзаказа фирмы, предлагающие наиболее низкую из заявленных на торгах цен. Описанному явлению способствует и то, что в законодательстве предусмотрена возможность проведения аукционов на закупку продукции для государственных нужд, притом, что аукционы традиционно являются формой торгов, обеспечивающих максимально возможное снижение цен [11].
Данная сконструированная реальность представляет собой модели отношений, которые действуют как рыночные «при помощи специально созданных противоречий между функциями спроса и предложения» [26]. Со стороны предложения приставка «квази» обусловливается в первую очередь тем, что поставщики конкурируют не за потребителей и их средства, а за государственное, а иногда и альтернативное, финансирование, которое в данном случае выступает в роли прибыли. Покупатель при этом может получать продукцию, в которой он признан нуждающимся, но не имеет непосредственного контроля над оценкой или над распределением ресурсов. Позиция пользователя — позиция квазипокупателя, осуществляющего потребительский суверенитет через вторые руки [13].
Еще одним краеугольным камнем в проведении конкурсных процедур с позиций менеджериализма является приоритет критерия низкой цены. Данный аспект реализован исключительно с позиций рассматриваемой нами парадигмы, определенной британскими идеологами менеджериализации в терминах «трех Е» (Economy, Efficiency, Effectiveness). Речь идет об экономии как минимизации стоимости ресурсов, вкладываемых в деятельность, продуктивности как отношении между затратами и результатом деятельности, эффективности как результативности, то есть степени достижения целей стратегии, программы или проекта [13, 38]. В российских реалиях если первые два «Е» в полной мере принимаются организаторами госзакупок, то ответственность за «эффективность как результативность» ложится на плечи потенциального пользователя, зачастую недостаточно компетентного в области своего выбора, законодательно ограниченного в отстаивании профессиональных интересов и в итоге вынужденного добиваться результативности с использованием оборудования более низкого качества, чем желаемое.
Между тем взаимосвязь критерия качества с повышением производительности работы организации является неоспоримым фактором. Как показывают Политт, Бирхалл и Пэтман (1998), качество как категория современного менеджмента имеет два измерения. Первое, которое называют также профессиональным качеством, определяется техническими или профессиональными стандартами доминирующих профессиональных групп. Второе измерение качества связано с оценками, осуществляемыми с позиции потребителей услуги: это степень удовлетворения их ожиданий [13, 38]. Закупка медицинской продукции, неудовлетворяющей потребности врачей, наверняка приведет к снижению качества оказываемых медицинских услуг и у росту неудовлетворенности пациентов системой охраны общественного здоровья.
Давление менеджериализма присутствует и в существующей контрактной системе, зачастую создающей препятствия для дополнительной закупки необходимых в экстренном порядке лекарственных средств, расходных материалов и комплектующих.
В контексте функционирования конкурсной системы необходимо отметить и наличие строгого контроля, со стороны как Федеральной антимонопольной службы, так и правоохранительных органов. Мировая практика внедрения «нового публичного менеджмента» свидетельствует зачастую о негативных последствиях такого надзора. Так, в эпоху менеджериализации первой волны в государственном секторе Великобритании основные изменения были направлены на усиление надзора и контроля, в силу чего менеджмент организаций оказался более подотчетен внешним структурам и, как следствие, усилились иерархические связи внутри структуры, поскольку «чем сильнее контроль над организацией, тем более централизованной и формализованной оказывается ее структура» [39].
Таким образом, можно свидетельствовать наличие очевидных противоречий между принципами менеджериализма, направленными на достижение экономической эффективности, и этикой медицины, ставящей интересы благополучия пациента превыше всего, которые создают препятствия на отдельных этапах реализации деятельности по ресурсному обеспечению здравоохранения (при формировании заявки на размещение государственного заказа, при разработке характеристик продукции, планируемой к закупке; при проведении конкурсных процедур и выборе поставщика и т.д.) [30].
Последствия для системы оказания медицинской помощи состоят в закупке продукции по завышенной цене или более дешевых и менее качественных аналогов медицинской техники и лекарственных средств; в невозможности удовлетворить экстренные потребности ЛПУ в дорогостоящих лекарственных средствах, так как регламентированные процедуры приводят к затягиванию сроков поставки продукции и зачастую идут в ущерб здоровью конкретных пациентов.
Мировой опыт свидетельствует о нарастании актуальности смены парадигмы управления от экономизирования, присущего «новому публичному менеджменту», к декларируемому в последние годы «менеджменту публичных ценностей» [4].
Возникшая концепция «менеджмента публичных ценностей» противостоит экономическому подходу к публичному управлению и вводит ряд императивов, которые отчасти пересматривают вопросы отношений государства и общества в части менеджериаль-ных целей, публичного интереса и доминирующей модели подотчетности [8].
Менеджмент публичных ценностей, по сути, является клиенториентированным подходом, ставящим во главу угла степень удовлетворенности потребителя качеством оказываемых услуг или поставляемой продукции. Принимая во внимание характерное для рынков медицинской продукции расщепление функции потребителя, в данном случае им выступает врач, осуществляющий выбор методов диагностики и лечения и, следовательно, соответствующего оборудования и лекарственных средств.
Принцип «клиент (а в нашем случае — врач) всегда прав» не является очевидным при решении вопросов, касающихся публичной сферы и публичных услуг. Оценка ценности публичного блага только кли- ентом для самого себя порождает эффективность исключительно в отсутствие конфликта интересов, а при его возможном наличии требует эффективных институтов административного и общественного надзора с целью профилактики злоупотреблений. При увеличении степени ответственности врачей за осуществляемые действия в сфере закупок с целью демократизации процедуры выбора и повышения ее транспарентности становится очевидна необходимость более широкого внедрения коллективных методов обсуждения и принятия обоснованных решений на основе не рыночных критериев, а медико-социальных факторов: клинической востребованности медицинской продукции, эффективности методов лечения и диагностики, адекватности их соответствующему уровню системы оказания медицинской помощи.
Коллективное открытое формирование публичных ценностей социально значимых товаров и услуг в рамках «менеджмента публичных ценностей» означает, что публичная ценность больше, чем сумма индивидуальных предпочтений потребителей и производителей. Решение о сути и форме публичной ценности должно приниматься коллективно через обсуждение с участием выборных или назначаемых должностных и ключевых заинтересованных сторон [4].
Таким образом, представленные принципы «менеджмента публичных ценностей» в части следования коллективным предпочтениям клиентов, повышения уровня их удовлетворенности, доверия к существующей системе государственных закупок в отрасли здравоохранения, а также системы подотчетности перед общественными представителями, участниками рынка и налогоплательщиками являются основным направлением развития системы государственных закупок медицинской продукции.
Список литературы Государственные закупки медицинской продукции: от менеджериализма к менеджменту публичных ценностей
- Голикова Т. А. О разработке и принятии региональных программ модернизации здравоохранения//Менеджмент качества в сфере здравоохранения и социального развития. 2011. №1 (07). С. 4-10
- Модернизация здравоохранения: новая ситуация и новые задачи/под ред. И.М. Шеймана, С. В. Шишкина. М.: Дело, 2010. 232 с.
- Pollitt С, Bouckaert G. Public management reform: a comparative analysis. 2nd edition, Oxford: Oxford University Press, 2004. 328 p.
- Сморгунов Л. В. Государство и политика модернизации//Вестник философии и социологии Курского государственного университета. 2010. № 2. С. 132-139
- Абрамов Р. Н. Менеджериализм: экономическая идеология и управленческая практика//Экономическая социология. 2007. Т. 8, №2. URL: http://ecsoc.msses.ru
- Considine М. The corporate management framework as administrative science: a critique//Australian Journal of Public Administration. 1988.Vol. 47, №1. P. 4-18
- Maor M. The Paradox of Managerialism//Public Administration Review. 1999. Vol. 59, № 1. P. 5-18
- Сморгунов Л. В. Сравнительное государственное управление: теория, реформы, эффективность. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2000, 228 с.
- Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». М., 2005
- Постановление Правительства РФ от 3 ноября 2011 г. № 881 «О порядке формирования начальных (максимальных) цен контрактов (цен лотов) на отдельные виды медицинского оборудования для целей их включения в документацию о торгах на поставку такого оборудования». М., 2011
- Корытцев М.М. Квазирынок государственных закупок: варианты организации и потери эффективности//Экономический вестник Ростовского государственного университета. 2006. Т. 4., №2. С. 112-118
- Pollitt, С. Time, policy, management: governing with thepast. Oxford: Oxford University Press, 2008. 201 p.
- Искорцева H.B., Менеджериализация социальных сервисов: основные принципы и проблемы//Журнал исследований социальной политики/Российское общество социологов, Центр социальной политики и тендерных исследований, Саратовский государственный технический университет. 2005. Т. 3., № 4. С. 479-496
- Taylor-Gooby P., Lawson R. Where we go from here: The new order in welfare//Markets and managers
- New issues in the delivery of welfare/ed. By P. Taylor-Gooby and R. Lawson. Buckingham: Open University Press, 1993. P. 133-149
- Алексеева Н.Ю. О новых подходах к региональной политике в сфере здравоохранения на уровне субъекта Российской Федерации//Экономика здравоохранения. 2011. №3-4.0 5-14
- Гайдаров Г.М., Алексеева Н.Ю. Модернизация здравоохранения субъекта Российской Федерации как новый этап в повышении доступности и качества медицинской помощи населению//Менеджмент качества в сфере здравоохранения и социального развития. 2011. № 1 (07). С. 11-29
- Annandale Е., Elston М.А., Prior L. (eds). Medical Work, Medical Knowledge and Health Care. Oxford: Blackwell, 2004, 476 p.
- Кульман Э. Разновидности профессионализма поздней современности: на примере немецкой системы здравоохранения//Журнал исследований социальной политики/Рос. общ. социологов, Центр соц.политики и тендерных исследований, Саратовский ГТУ. 2005. Т. 3, № 4. С. 535-549
- Allsop J., Saks М. (eds) Regulating the Health Professions. London: Sage, 2002, 166p.
- Blank R.H., Burau V. Comparative Health Policy. Houndmills: Palgrave, 2004, 304 p.
- Поляков И. В., Максимов А. В. Реформы здравоохранения в России на рубеже веков (конец XX -начало XXI века): Социально-правовой и экономический очерк. СПб: МА-НЭБ, 2008. 88 с.
- Новокрещенова И. Г. Организационно-экономические основы функционирования муниципального здравоохранения. Саратов: Изд-во СГМУ, 2008. 193 с.
- Шамшурина Н.Г., Иорданян А. В. Предоставление прав медицинским учреждениям заниматься медицинской деятельностью, приносящей доходы: перспективы автономных учреждений//Здравоохранение. 2011. № 3. С. 21 -36
- Хайруллина И. С. Правовой статус учреждений меняется: больше свободы, больше ответственности//Менеджер здравоохранения. 2010. № 3. С. 60-73
- Камаев И.А., Ефимова И.А., Поздеева Т. В. [и др.] Ресурсное обеспечение здравоохранения в регионах Приволжского федерального округа//Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. -2002. № 4. С. 37-40
- Langan М., Clarke J. Managing in the mixed economy of care//Managing social policy/ed. ву J. Clarke, A. Cochrane, E. McLaughlin. London: Sage, 1994. P. 73-92
- Дуганов М.Д., Шабунова А.А., Калашников A.H. Од-ноканальное финансирование здравоохранения: сущность, проблемы, перспективы//Здравоохранение. 2011. № 7. С. 32-40
- Ибрагимова Г.Я., Уразлина О. И., Нестерова Д.Ф., Рузанова В. П. Особенности организации закупа лекарственных средств и изделий медицинского назначения для государственных и муниципальных медицинских организаций на территориальном уровне (на примере Республики Башкортостан)//Главный врач. 2011. № 11 С. 22
- Долгушин В. В., Сытченко К. Н., Кобец С. В. Опыт государственных закупок в сфере здравоохранения и фармации Омской области//Здравоохранение. 2009. № 4. С. 43-48
- Салагай 0.0. Противодействие коррупции в сфере здравоохранения: политико-правовой аспект//Здравоохранение Российской Федерации. 2009. № 6. С. 3-8
- Тихомиров А. В. Коррупция в здравоохранении//Главный врач: хозяйство и право. 2009. № 6. С. 32-37
- Островский А. Н., Новокрещенов И. В., Новокрещенова И. Г. Роль врачей-специалистов в обеспечении ЛПУ медицинским оборудованием//Главный врач. 2011. № 12 С. 35-40
- Шейман И.М. Управление рисками при реструктуризации здравоохранения//Здравоохранение. 2011. № 9. С. 28-33
- Corruption in health services: editorials//J. Hlth Serv. Res. Policy. 2007. № 2 (12). P. 67-68
- Гусева С. Л. Организационная структура как основа стратегического управления лечебным учреждением//Экономика здравоохранения. 2011. № 7-8. С. 5-8
- Enteman W. F. Managerialism: The emergence of a new ideology. Madison: Univ. of Wsconsin press, 1993, XIV, 258 p.
- Кривенко H.B. Использование маркетинговых информационно-аналитических систем в учреждениях здравоохранения//Экономика здравоохранения. 2011. № 3-4. С. 23-28
- Politt О, Birchall J., Putman К. Decentralising public service management. London: Macmillan, 1998. 224 p.
- Минцберг Г., Куинн Дж. Б., Гошал С. Стратегический процесс: концепции, проблемы, решения. СПб.: Питер. 2004. 688 с.