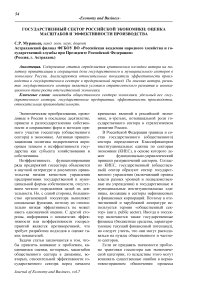Государственный сектор российской экономики: оценка масштабов и эффективности производства
Автор: Муравьев С.Р.
Журнал: Экономика и бизнес: теория и практика @economyandbusiness
Статья в выпуске: 7 (17), 2016 года.
Бесплатный доступ
Содержание статьи определяется критическим взглядом автора на политику приватизации и сокращения доли государственного и муниципального секторов в экономике России. Анализируются относительные показатели эффективности производства в государственном секторе в предкризисный период. По мнению автора, развитие государственного сектора является условием стратегического развития и инновационного типа роста отечественной экономики.
Масштабы общественного сектора экономики, удельный вес государственного сектора, эффективность производства, относительная производительность
Короткий адрес: https://sciup.org/170180231
IDR: 170180231
Текст научной статьи Государственный сектор российской экономики: оценка масштабов и эффективности производства
Экономические преобразования, проводимые в России в последнее десятилетие, привели к разгосударствлению собственности и сокращению форм и методов прямого участия госсектора (общественного сектора) в экономике. Активная приватизационная политика подкрепляется априорным тезисом о неэффективности государства как субъекта хозяйствования и собственника.
Неэффективность функционирования ряда предприятий госсектора объясняется в научной литературе и документах правительства низким качеством управления предприятиями государственной и муниципальной формы собственности, отсутствием четкого определения целей их деятельности. Но, с одной стороны, большинство организаций госсектора выполняет социальные функции, поэтому их относительно низкая эффективность не может иметь однозначной оценки. С другой стороны, информация о показателях эффективности или неэффективности госпредприятий является противоречивой, что требует разработки подходов к оценке таких показателей.
Задачи статьи заключаются в том, чтобы привлечь внимание к проблемам, касающимся оценки, во-первых, масштабов общественного сектора в динамике, во-вторых, относительной эффективности государственного сектора перед началом кризисных явлений в российской экономике, в-третьих, потенциальной роли государственного сектора в стратегическом развитии России.
В Российской Федерации границы и состав государственного (общественного) сектора определяются Классификатором институциональных единиц по секторам экономики (КИЕС), в основе которого лежит функционально-управленческий принцип разграничений секторов. Согласно КИЕС, государственный (общественный) сектор образуют сектор государственного управления (включающий органы власти разных уровней и подведомственные им учреждения) и государственные и муниципальные институциональные единицы, входящие в секторы нефинансовых и финансовых корпораций. Поэтому в отечественной и зарубежной литературе используется термин «общественный сектор» (англ. public sector). Иногда в госсектор включаются также государственные финансы (бюджетные средства, характеризующие текущий финансовый потенциал), но следует учесть, что они могут расходоваться на нужды общественного и частного секторов.
Если не придавать значимости проблеме трактовки госсектора как экономической категории, то вследствие этого могут возникать существенные ошибки в нормативно-правовом обеспечении процесса функционирования госсектора и сбора достоверной статистической информации для анализа, формирование неверных концепций управления госсектором, государственной собственностью и всей национальной экономикой.
Так, по некоторым экспертным оценкам, в последнее десятилетие роль госсектора в российской экономике усиливается, а вклад госкомпаний и государства как субъекта бюджетных расходов в ВВП России в 2015 г. достигает 70 % против 35 % в 2005 году [1, с. 4]. Согласно противоположной точке зрения, размеры госсектора стали незначительными, его финансирование урезано до предела [2, с. 51].
Используя методику интегрированной оценки масштаба госсектора, предложен- ную Е. Балацким [3, с. 79], оценим изменение доли общественного сектора в России за 2005-2014 годы по данным Росстата (таблица 1).
Следует учитывать, что в настоящее время в российской статистике нет достоверной оценки К 3 как доли госсектора в выпуске, поэтому экономисты часто используют показатель выпуска по сектору государственного управления (органы управления, учреждения социальных отраслей, внебюджетные фонды, отдельные госкорпорации). Но при этом не учитывается выпуск сектора нефинансовых и финансовых корпораций, унитарных предприятий, что делает использование показателя К 3 не слишком полезным для целей анализа.
Таблица 1. Оценка изменения масштабов общественного сектора в экономике России, проценты
|
Годы |
Доля общественного (государственного и муниципального) сектора в экономике (К3) |
||||
|
Численность занятых (К1 )* |
Объем основных фондов (К 2 ) |
Численность предприятий (К 4 ) |
Объем капиталовложений (К5 )* |
Интегрированная оценка (Ki + К2 + К4 + К)/4 |
|
|
2005 |
33,5 |
23,0 |
8,7 |
22,6 |
21,95 |
|
2011 |
29,4 |
18,0 |
7,3 |
21,6 |
19,08 |
|
2012 |
28,7 |
18,0 |
7,0 |
21,7 |
18,85 |
|
2013 |
28,0 |
18,0 |
7,0 |
22,3 |
18,83 |
|
2014 |
27,6 |
18,0 |
6,8 |
18,5 |
17,73 |
* Без учета смешанной российской формы собственности; данные по капиталовложениям в 2011-2014
гг. – приведены с учетом инвестиций госкорпораций.
Как показывают данные таблицы 1, политика приватизации и структурные изменения в экономике оказали влияние на последовательное снижение численности организаций и работников общественного сектора (с учетом и без учета смешанной российской формы собственности), а также на снижение учетной стоимости основных фондов, находящихся в государственной и муниципальной собственности. Эти процессы не могли не сказаться на уменьшении относительной доли инвестиций в основной капитал.
Полученные в результате расчетов показатели в динамике свидетельствуют, что на протяжении 2005-2014 гг. усредненная доля общественного сектора последовательно снижалась с 21,95 % в 2005 г. до
17,73 % в 2014 г., что означает ослабление позиций общественного сектора в экономике России.
Анализ данных Росстата требует разграничения государственного и муниципального секторов. В этом случае к государственному сектору относят организации, учтенные федеральным агентством по управлению государственным имуществом и его территориальными управлениями, органами по управлению государственным имуществом субъектов РФ.
При анализе государства в экономике в качестве производителя товаров, опираясь на доступные статистические данные [4], отметим, что на протяжении 2011-2014 гг. годов наблюдался незначительный удельный вес государственного сектора по большинству показателей хозяйственной деятельности (доля не более 15–25 %). Например, удельный вес объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ в добыче полезных ископаемых хотя и вырос в 2013 г. на 5,1 процентный пункт (далее – п.п.) по сравнению с предшествующим годом, составил 21,6 %, а в обрабатывающих производствах при росте на 2,2 п.п. – только 12,0 %.
Доля госсектора в выпуске в 2011-2014 гг. преобладала лишь по нескольким видам деятельности, например, грузовым и пассажирским перевозкам, внутренним затратам на исследования и разработки. Более 20 %, но менее 50 % – эта доля была в производстве этилового спирта из пищевого сырья, грузовых магистральных вагонов, выработки электроэнергии на гидроэлектростанциях, пассажироперевозок автотранспортом, всех видов платных услуг, в добыче нефти, включая газовый конденсат.
Такие данные не подтверждают тезис о росте госсектора.
Отражая достаточно распространенный взгляд на масштабы государственного сектора, О. Изряднова [5, с. 238] указывает на диспропорции в управлении государственными инвестициями, недопустимость расширения присутствия государства и наращивания объемов государственных инвестиций в условиях бюджетного дефицита при отсутствии отлаженных механизмов повышения отдачи от них. При этом повторяется тезис об инвестиционном кризисе на предприятиях государственной формы собственности как отраже- нии низкой эффективности их функционирования.
Многие экономисты, разделяющие точку зрения на недостаточную инвестиционную активность госсектора, указывают на то, что российские исследования не свидетельствуют о существенных различиях в показателях эффективности частных и государственных компаний [6, с. 18] и считают тезис об избыточности присутствия государства в российской экономике не подкрепленным доказательствами.
Е. Балацкий указывал на то, что в европейских странах госсектор не проигрывает частному сектору одновременно по двум показателям: производительности труда и инвестиционной активности. Проанализируем эффективность госсектора по относительным показателям производительности труда по видам экономической деятельности (таблица 2), рассчитанным автором по данным Росстата [4].
Следует отметить ограниченность круга доступных данных официальной статистики, касающихся производства в общественном секторе. Данные мониторинга состава государственного сектора в 20142015 гг. почти полностью отсутствуют, поскольку правительственное постановление «О некоторых мерах по совершенствованию статистического наблюдения в сфере управления государственным имуществом» (от 29 января 2015 г.) отменило ранее действующее постановление «О прогнозе развития государственного сектора экономики Российской Федерации». Поэтому данные по хозяйственным и финансовым результатам госсектора доступны только по его состоянию на 2013 год.
Таблица 2. Относительные показатели эффективности организаций государственного сектора по видам деятельности в 2012-2013 гг., в разах
|
Виды экономической деятельности |
Отношение производительности труда в государственном секторе к аналогичному показателю негосударственного сектора |
Отношение сальдированного финансового результата в расчете на одного среднесписочного работника в государственном секторе к аналогичному показателю негосударственного сектора |
||
|
2012 год |
2013 год |
2012 год |
2013 год |
|
|
По видам деятельности в целом |
0,42 |
0,40 |
0,52 |
0,33 |
|
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство |
0,51 |
0,47 |
0,20 |
0,096 |
|
Добыча полезных ископаемых |
1,39 |
2,0 |
1,56 |
3,24 |
|
Обрабатывающие производства |
1,33 |
1,54 |
1,70 |
1,11 |
|
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
0,78 |
0,82 |
2,78 |
3,33 |
|
Строительство |
1,8 |
1,66 |
0,48 |
0,55 |
|
Транспорт и связь |
1,18 |
1,06 |
1,10 |
0,94 |
Производительность труда в госсекторе рассчитана как выручка, приходящаяся на одного среднесписочного работника организаций определенного вида деятельности и сектора экономики, а сальдированный финансовый результат в расчете на одного среднесписочного работника (чистая производительность) – как отношение разницы совокупной прибыли и убытка организаций и среднесписочной численности работников организаций определенного вида деятельности и сектора экономики.
Из данных таблицы 2 следует, что ПТ в негосударственном секторе превышала этот показатель в госсекторе в 2,4 раза в 2012 г. и в 2,5 раза в 2013 году. Но не все однозначно по видам деятельности. В 2012 г. в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве ПТ в негосударственном секторе превышала аналогичный показатель госсектора в 1,96 раза, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – в 1,28 раза, а также в государственном управлении и обеспечении военной безопасности, социальном страховании – в 1,8 раза, в здравоохранении и предоставлении социальных услуг – в 9,43 раза, в образовании – в 14 раз. Но в добыче полезных ископаемых, наоборот, ПТ госсектора преобладала в 1,39 раза, а в обрабатывающих производствах – в 1,33 раза, в строительстве – в 1,8 раза, на транспорте и связи
– в 1,18 раза. За исключением строительства, транспорта и связи, сельского хозяйства (без учета сферы социальных услуг) относительный показатель производительности по основным видам деятельности в госсекторе в 2013 г. вырос.
Если интерпретировать эти данные, то следует сказать, что превышение производительности в негосударственном секторе в целом дали именно те виды деятельности (образование, здравоохранение, управление), которые в госсекторе ориентированы на оказание некоммерческих услуг. В тех видах, где выручка преимущественно формируется в ходе коммерческой деятельности, позиции госсектора не уступают, а во многих видах преобладали в 20122013 гг. по показателю производительности.
В то же время относительная выручка лишь условно может считаться показателем эффективности. Более показательным является значение сальдированного финансового результата (прибыль минус убыток) в расчете на одного среднесписочного работника (можно назвать его «чистая производительность», далее – ЧП).
Как следует из данных таблицы 2, негосударственный сектор по ЧП превышал этот показатель госсектора в 1,9 раза в 2012 г. и в 3 раза в 2013 году. Такая дина- мика объясняется ростом доли убытка организаций государственного сектора в общем убытке с 15,9 % в 2012 г. до 21,4 % в 2013 г. Особенно значительно относительный убыток вырос в сельском хозяйстве, на транспорте и в связи. Однако в 20122013 гг. в добыче полезных ископаемых, в обрабатывающих производствах относительная ЧП была выше, чем в негосударственном секторе и при этом выше показателя относительной ПТ. Интерес представляет и тот факт, что в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды госсектор уступал по показателю ПТ, но в среднем за два года в 3 раза выигрывал у негосударственного сектора по показателю ЧП, а в строительстве все обстояло с точностью до наоборот.
Одним из факторов отличий показателей ПТ и чистой производительности (ЧП) может быть величина затрат на заработную плату. Однако сравнительные показатели не объясняют эти расхождения. Заработная плата в госсекторе была выше по видам деятельности, где этот сектор проигрывал по обоим показателям (ПТ и ЧП) и проигрывал по одному, но выигрывал по другому, а также при преимуществе по двум показателям.
Таким образом, показатели ЧП в государственном секторе по ряду видов деятельности выглядят внушительными и никак не могут свидетельствовать о низкой эффективности большинства предприятий госсектора. Во многих видах деятельности госсектор лидирует по показателю производительности труда и (или) показателю чистой производительности. Возможно, такой результат является итогом приватизационной политики и оптимизации госсектора, но тогда это не означает, что обвальная приватизация безусловно способствует росту эффективности производства.
Было бы необъективным утверждать, что вопросам эффективности в госсекторе не уделяется внимание. Так, в 2015 г. в 40 корпорациях, которые входят в специальный перечень предприятий, утвержденный распоряжением Правительства РФ (2003 г.) был разработан комплекс мер по повышению производительности труда. В то же время 469 компаний, не включенных в перечень корпораций с совокупной долей государства более 50 %, охват этими мерами оказался существенно ниже [5, с. 397].
Резюмируя итоги анализа, можно сказать, что вопрос об эффективности госсектора следует рассматривать в двух аспектах: в аспекте эффективности сектора государственного управления и эффективности предприятий госсектора. Но разделение этих аспектов весьма условно. Только при достаточном финансировании госсектор способен функционировать как высокоэффективный сегмент и технологический авангард национальной экономики [3, с. 52].
Проблема, как представляется, состоит в том, что либеральная идея в отношении оптимизации госсектора базировалась на построении североамериканской модели с преимущественным присутствием государства в оборонном комплексе и социальной инфраструктуре, в отраслях естественных монополий. Однако на деле возникло противоречие между идеями и реальными условиями выполнения государством своих функций. При отсутствии эффективного управления государственным имуществом, высокотехнологичного промышленного сектора, слабом развитии видов услуг, базирующихся на интеллектуальных ресурсах, наукоемких и информационных технологиях, при сращивании интересов государства и бизнеса (что характерно для азиатской модели госсектора), относительно низких доходах населения и его и зависимости от бюджетных услуг российский общественный сектор экономики неизбежно приобрел черты гибридной неэффективной модели. Можно в целом согласиться с мнением, согласно которому ослабление роли государства и приватизация, разрушение адекватных современному плановому хозяйству институтов лишило производство внутреннего импульса развития, обрекло экономику на стагнацию, расслоение общества [3, с. 51].
Тем не менее на правительственном уровне идея построения североамериканской модели госсектора по-прежнему вне- дряется в жизнь. В 2014-2016 гг. реализуется вторая трехлетняя программа прива- тизации, предусматривающая, что приватизации федерального имущества будет способствовать выходу государства из капитала компаний «несырьевого сектора», не относящихся к субъектам естественных монополий и организациям оборонного комплекса [1, с. 13]. Кроме того, навязчивая идея о сокращении дефицита федерального бюджета, в том числе в период рецессии, воплотилась в так называемую «оптимизацию» бюджетного сектора в 2015-2016 гг., в результате которой на региональном уровне происходит сокращение и «урезается» заработная плата персонала бюджетных организаций, недофинансируется социальная инфраструктура.
Проблематика масштабов и поддержки госсектора приобретает значимость в связи необходимостью стратегического планирования развития российской экономи- ки и отсутствием кардинальных результатов решения задачи модернизации.
В 2014 г. вступил в силу Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации», проект которого несколько лет был зарезервирован. Наряду с формированием Совета по стратегиче- скому развитию и приоритетным проектам (июнь 2016 г.) этот закон может стать знаковым шагом для изменения отношения к управлению народным хозяйством. Конечно, промышленная и инновационная политика должна предусматривать стимулы для субъектов негосударственного сектора. Но учитывая зарубежный опыт и уроки системных реформ в России, было бы рациональным исходить из того, что проводником мероприятий по стратегическому и тактическому планированию могли бы стать государственные предприятия. Уместно вспомнить успешных опыт европейских стран в осуществлении политики нового государственного управления (NPM) в 1980-1990-е годы, направленной на рост производительности труда и инвестиционной активности госсектора.
«Оптимизация управления госсекто- ром» должна пониматься не как положение «небольшой госсектор – небольшие проблемы», а как изменение качества и ответственности управления с учетом стратегических целей развития страны.
Список литературы Государственный сектор российской экономики: оценка масштабов и эффективности производства
- Государственное участие в российской экономике: госкомпании, закупки, приватизация [Электронный ресурс] // Бюллетень о развитии конкуренции: Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации. - 2016 (март). - №13. - URL: http://ac.gov.ru/files/publication/a/8449.pdf (Дата обращения: 02.07.2016).
- Балацкий Е.В. Элементы экономики государственного сектора [Электронный ресурс]. - URL: http://kapital-rus.ru/articles/article/elementy_ekonomiki_gosudarstvennogo_sektora/ (Дата обращения: 04.07.2016).
- Шумаев В.А. Совершенствование управления государственным сектором экономики с учетом опыта зарубежных стран / В.А. Шумаев // Механизация строительства. - 2013. - №10 (832). - С.49-52.
- О развитии государственного сектора экономики Российской Федерации [Электронный ресурс] / Федеральная служба государственной статистики [2011-2013 гг.]. - URL: http://sophist.hse.ru/rstat/ (Дата обращения: 22.07.2016).
- Мау В. Российская экономика в 2015 году. Тенденции и перспективы. (Вып. 37) / В. Мау и др.; под ред. Синельникова-Мурылева С.Г. (гл. ред.), Радыгина А.Д.; Ин-т экономической политики им. Е.Т. Гайдара. - М.: Изд-во Ин-та Гайдара, 2016. - 472 с.
- Кондратьев В. Второе дыхание государственного капитализма / В. Кондратьев // Мировая экономика и международные отношения. - 2013. - № 6. - С. 3-18.