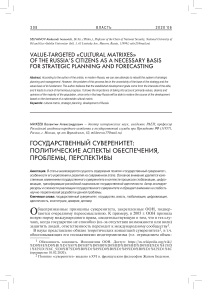Государственный суверенитет: политические аспекты обеспечения, проблемы, перспективы
Автор: Михеев Валентин Александрович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Конференции
Статья в выпуске: 6, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются сущность содержания понятия «государственный суверенитет», особенности его укрепления и развития на современном этапе. Основное внимание уделяется качественным изменениям государственного суверенитета в контексте процессов глобализации, цифровизации, трансформации российской национально-государственной идентичности. Автор исследует ресурсы и сложности реализации государственного суверенитета и обращает внимание на слабость научно-теоретической разработки данной проблемы.
Государственный суверенитет, государство, власть, глобализация, цифровизация, идентичность, конституция, доверие, договор
Короткий адрес: https://sciup.org/170171271
IDR: 170171271 | DOI: 10.31171/vlast.v28i6.7803
Текст научной статьи Государственный суверенитет: политические аспекты обеспечения, проблемы, перспективы
О бщепризнанные принципы суверенитета, закрепленные ООН, подвергаются очередному переосмыслению. К примеру, в 2005 г. ООН приняла новую норму международного права, свидетельствующую о том, что в тех случаях, когда государство не способно (из-за отсутствия возможности или воли) защитить людей, ответственность переходит к международному сообществу1.
В науке представлено обилие теоретических концепций суверенитета2, в т.ч. обосновывающих его положениями индетерминизма (т.е. отрицанием объек- тивности причинных связей и значимости причинных объяснений) и/или на основе неоднозначной детерминации политических процессов.
Энтони Гидденс, к примеру, подчеркивает, что реальным, а не номинальным суверенитетом государства, «многим странам [имеются в виду страны, вступившие в ЕС, НАТО. – Прим. авт .] пришлось поступиться. Идея о том, что международные отношения могут состоять в содействии сотрудничеству и верховенству права, обманчива» [Гидденс 2015: 225].
В политической практике наряду с государственным суверенитетом широко употребляются национальный, народный, парадный1, а также индивидуальный суверенитет, «суверенитет Рунета»2 и даже искусственного интеллекта.
Один из американских журналистов во время зарубежной пресс-конференции Д.А. Медведева, состоявшейся в марте 2019 г., спросил: «Как Вы понимаете государственный суверенитет?» Ответ был таков: «Государственный суверенитет определяется как верховенство государственной власти внутри страны и независимость вне ее»3. Как видим, в толковании сущности государственного суверенитета среди ученых, политиков и политологов нет единомыслия.
В связи с этим подчеркнем, что в Конституции РФ суверенитет государства закреплен в двух формах. Во-первых, «носителем суверенитета и единственным источником власти в РФ является ее многонациональный народ»4. Во-вторых, суверенитет РФ «распространяется на всю ее территорию», т.е. является основой ее государственности5, а «верховенство» имеют Конституция РФ и федеральные законы6.
Государственный суверенитет как политическая, конституционно закрепленная ценность реализуется, как отмечают ученые, «в условиях снижения приоритета традиционных форм пространственной организации государственной власти, когда государство не обладает исключительным правом распоряжаться тем, что происходит в пределах его собственных территориальных границ» [Соловьев 2018: 361].
Это означает, что назрели изменения, связанные с государственным суверенитетом, обусловленные многими факторами, в том числе эволюцией внутригосударственных отношений, выражающихся в многообразных формальных и неформальных взаимодействиях с обществом, необходимостью уточнения содержания частных и общественных суверенитетов, принципов их сочетания; трансформацией государственного управления, в содержании и практике которого происходит переплетение государственных, рыночных, сетевых, различных типов «командных» форм регулирования; расширением электронного администрирования и т.д.
Современный мировой порядок, расширение контактов с мировым политическим сообществом, увеличение роли наднациональных структур проти- воречиво воздействуют на состояние и исполнение суверенных полномочий государств. С одной стороны, усиливаются процессы, уменьшающие суверенитеты стран, а с другой – многие государства добровольно и сознательно идут на эти ограничения, делегируя часть объема суверенитета наднациональным органам.
Современные наднациональные структуры – к примеру, Европейского союза – порождают неудовлетворенность ряда государств своим положением по многим позициям. Выход Британии из Евросоюза получил позитивную оценку лидеров отдельных политических партий Германии, Франции, высказывающих точку зрения, что Брексит может стать началом конца Европейского союза1. Заместитель председателя партии «Альтернатива для Германии», заместитель главы фракции в бундестаге Беатрис фон Шторх говорит: «Германия должна быть суверенным государством… Мы хотим, чтобы политика государства осуществлялась в наших национальных интересах, а не вразрез с ними»2.
Российские ученые и политики связывают эволюцию суверенитета с образованием структур, опирающихся на национально-территориальные базы, а также тех, чья субстанция будет образована субъектами, порожденными культурно-цивилизационными традициями [Суверенитет… 2008]. И даже в условиях становления будущего глобального государства, подчеркивают исследователи, государственный суверенитет никуда не исчезает, а становится территориально очерченным, распределяется между локальным, региональным, национальным и мировым уровнями, как в сахаровском проекте Конституции Европейско-Азиатского Союза3.
В процессе обеспечения государственного суверенитета особую значимость имеет цифровизация экономики, систем управления, многих сфер общественных и международных отношений.
Электронные средства цифровизации, информационные системы, социальные сети стали частью повседневной жизни россиян. Число пользователей российского Интернета в 2016 г. составляло более 80 млн чел.4 Развиваются системы сбора и анализа данных, обмена ими, управления производственными процессами, осуществляющиеся на основе внедрения когнитивных технологий, их конвергенции с нано- и биотехнологиями, создаются искусственный интеллект, альтернативные источники энергии, которые становятся доступными для широкого применения и массового использования.
Как видим, возникают и усиливаются неординарные обстоятельства, выражающиеся в многовекторном воздействии на ценностно-ролевые и качественные характеристики государственного суверенитета. С одной стороны, создаются условия для устойчивого функционирования информационной инфраструктуры РФ, а с другой – происходит процесс размывания линий разграничения между внутренними и внешними рисками, угрозами в обеспечении государственного суверенитета. Нечто подобное обнаружилось в дискуссиях по поводу принятия так называемого закона «О суверенитете Рунета». Сложность процесса обеспечения государственного суверенитета заключается в том, что «международно-правовые механизмы, позволяющие отстаивать суверен- ное право государств на регулирование информационного пространства… не установлены»1. Большинство государств вынуждены на ходу адаптировать государственное регулирование сферы информации к новым условиям2.
Значимо актуальным в укреплении и развитии государственного суверенитета становится российская национально-государственная идентичность.
Государственный суверенитет как уникальная развивающаяся ценность позволяет человеку, индивиду, государству и обществу самостоятельно и профессионально реагировать на внутренние и внешние факторы, реализуя свой интеграционный потенциал, выражающийся в классических качествах «российской нации как исторической социально-политической общности многонационального народа России» [Межнациональное согласие… 2018: 181]. Российская индивидуальная и коллективная идентичности, с приоритетом второй [Межнациональное согласие 2018: 188], характеризуют значимые ценностные качества и наполнение российского государственного суверенитета, проявляющегося в приверженности граждан принципам и нормам правового социального государства, демократического представительства, признании приоритета общественных интересов перед узкогрупповыми.
Все это свидетельствует о динамике становления различных форм внутреннего и внешнего суверенитета, раскрывает особенности его распыления «между суверенами, обладающими разным политическим весом» [Суверенитет… 2008: 41].
Многие современные процессы подтверждают, что «тернистость» государственного суверенитета заключается не только в понимании, толковании его содержания, но и в практике его реализации. При этом сложность последнего сосредоточивается преимущественно вокруг вопросов: как должны соотноситься конституционные правовые положения о государственном суверенитете с реалиями его осуществления; как взаимосвязано состояние общественного и личностного сознания граждан с их способностями суверенно мыслить и действовать. В этом состоят самые сложные задачи и внушительные затруднения.
Учитывая эти и другие обстоятельства, президент РФ В.В. Путин в послании Федеральному собранию внес ряд важных предложений и подчеркнул: «Россия может быть и оставаться Россией только как суверенное государство. Суверенитет нашего народа должен быть безусловным»3. Президент РФ предложил «создать систему… по внешнему контуру абсолютно стабильную, безусловно гарантирующую России независимость и суверенитет. В то же время систему внутри себя, легко и своевременно меняющуюся в связи с тем, что происходит в мире… и с развитием самого российского общества»4.
Значимо актуальным является предложение президента «гарантировать приоритет Конституции России в нашем правовом пространстве… Это означает, – подчеркнул он, – буквально следующее: требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречат нашей Конституции»5. Особое значение имеет также предложение о введении «обязательных требований к лицам, занимающим должности, критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны», которые не могут иметь иностранное гражданство, вид на жительство либо иной документ, который позволяет постоянно проживать на территории другого государства»1.
Государственный суверенитет в условиях постнеклассической научной картины мира2 является уникальным достоянием народа, государства и общества, интегративным потенциалом и важнейшим направлением развития государственных и межгосударственных взаимосвязей.
В этом отношении заслуживает внимания принятый ООН в 2015 г. документ «Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», содержащий 17 целей, ставящих в число важнейших развитие равноправных межгосударственных связей, достижение справедливого, инклюзивного мира. Наша страна включила все выдвинутые ООН цели в российские национальные проекты, принятые в соответствии с указом Президента РФ в мае 2018 г., и выступила с предложением представить в ООН в 2020 г. добровольный национальный обзор о ходе выполнения «Повестки 2030»3. Данная инициатива получила поддержку российского бизнеса, российской ассоциации «Национальная сеть Глобального договора», многих корпораций и компаний, входящих во всемирную сеть деловых кругов4. Подчеркнем, что в этом есть и проявление заботы о ценностном наполнении содержания и значимости государственного суверенитета Российской Федерации.
В процессе реализации государственного суверенитета возникает множество многоплановых и сложно разрешаемых проблем. Одна из наиболее значимых состоит в несовершенстве анализа и оценки результатов обеспечения государственного суверенитета.
Государство и общество нередко оказываются в заложниках у органов государственной власти, структур государственного и муниципального управления. Счетная палата в 2019 г. провела стратегический аудит 17 федеральных министерств, 7 служб и пришла к неутешительным выводам: у системы государственного управления обнаружены проблемы с целеполаганием. В планы министерств и служб включено достижение чуть больше половины (55%) показателей национальных проектов и около четверти (26%) показателей программ, за которые они отвечают. К тому же нередко информация в отчетах министерств не соответствует действительности. В этой связи Счетная палата констатирует: «Управление министерствами и ведомствами и оценка их эффективности не связаны с достижением национальных целей»5. Подобные явления, практики очковтирательства, приукрашивания действительности на протяжении столетий российской истории неоднократно повторялись, подвергались общественному осуждению, и принимались меры по их преодолению. Проницательно и прозорливо в этом отношении писал русский экономист и публицист И.Т. Посошков в своем произведении «Книга о скудости и богатстве…»6, подчеркивая, что «власть сама по себе не оправдывает государ- ства, но сама должна быть оправдана наперед, и то, что может ее оправдать, и есть правда». Понятие «правда» в представлении И.Т. Посошкова – это доверие как нравственная ценность и законность.
По обоснованию многих ученых и политиков, в нынешнем мире происходит утверждение «основополагающей фундаментальной неопределенности»1, становление общества недоверия [Розанваллон 2012] как ключевых особенностей современности.
Введение категорий доверия и недоверия в процесс укрепления государственного суверенитета придает ему особую, повышенную социально-политическую, экономическую, духовно-нравственную значимость.
Доверие, недоверие, неопределенность, риски в отношениях внутри государства и между странами планеты, по мнению ученых, характеризуют собой становление нового подхода к политике, государственному и общественному управлению, выражающегося в двух типах либерального и демократического недоверия. При этом подчеркивается, что либеральное недоверие характерно для политической системы, опирающейся на доверие общества, но стремящейся сдержать и ограничить концентрацию власти, обеспечить создание слабого правительства, закрепить недоверие институционально [Розанваллон 2012: 17]. В свою очередь, демократическое недоверие проявляется в основном в политико-правовом определении статуса оппозиции, движений несогласных, гражданского неповиновения; в воплощении надзорных функций; во внедрении превентивных инструментов, средств проверки суждений и мнений [Бек 2000: 17]. Итак, речь идет об осуществлении конкретных подходов внедрения и реализации в политике, государственном, муниципальном управлении позитивной институционализации недоверия, или «эффекта бумеранга», когда отрицательная оценка событий или критика известных личностей формирует у аудитории положительное мнение и превращает его в гарантию защиты государственного суверенитета, конституционных основ государства, прав и свобод человека и гражданина.
Острыми современными проблемами развития государственного суверенитета являются слабость его научно-теоретической разработки; истощенность обоснования суверенности с учетом нового мировидения, соотнесенности с ценностно-целевыми устремлениями народа, государства и общества; отсутствие критериев оценки деятельности структурных звеньев государства, бизнеса, институтов гражданского общества в этом направлении.
Государственный суверенитет как собирательный процесс государственного, общественного, частного и личного целенаправленно содействует выведению современной России на траекторию устойчивого роста, прорыву в «первый мир», в мировое ядро.
Статья публикуется при поддержке Школы молодого этнополитолога в Республике Башкортостан (грант Фонда президентских грантов 19-2-022447).
Список литературы Государственный суверенитет: политические аспекты обеспечения, проблемы, перспективы
- Бек У. 2000. Общество риска. На пути к другому модерну. М.: Прогресс -Традиция. 381 с
- Гаман-Голутвина О.В. 2019. Обновление научной картины мира как фактор релевантности современной политической науки. - Траектории политического развития России: институты, проекты, акторы: материалы всероссийской научной конференции РАПНсмеждународным участием (под ред. О.В. Гаман-Голутвиной и др.) М.: МПГУ. С. 99-100
- Гидденс Э. 2015. Неспокойный и могущественный континент: что ждет Европу в будущем (пер. с англ. А. Матвеенко, М. Бендет). М.: ИД "Дело". 237 с
- Межнациональное согласие в общероссийском измерении. Социокультурный и религиозный контексты: монография (отв. ред. Л.М. Дробижева). М. Изд-во ФНИСЦ РАН. 552 с
- Розанваллон П. 2012. Контрдемократия: политика в эпоху недоверия. -Неприкосновенный запас. № 4. С. 11-30
- Соловьев А.И. 2018. Тенденции и проблемы развития российской политической науки в мировом контексте: традиция, рецепция и новация (отв. ред. О.В. Гаман-Голутвина, С.В. Патрушев). М.: Политическая энциклопедия. 477 с
- Суверенитет. Трансформация понятий и практик: монография (под ред. М.В. Ильина, И.В. Кудряшовой). 2008. М.: МГИМО-Университет. 228 с