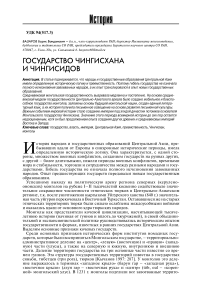Государство Чингисхана и чингисидов
Автор: Базаров Борис Ванданович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: История
Статья в выпуске: 9, 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье подчеркивается, что народы и государственные образования Центральной Азии имели определенную историческую логику и преемственность. Поэтому гибель государства не означала полного исчезновения завоеванных народов, а их опыт транслировался в опыт новых государственных образований. Средневековая монгольская государственность вызревала медленно и постепенно. На основе средневековой модели государственности Центрально-Азиатского ареала было создано мобильное и боеспособное государство монголов, заложены основы будущей монгольской нации, создан единый литературный язык, а их история получила письменное освещение на основе развития письменной культуры. Важным событием мировой истории стало создание империи под эгидой династии потомков основателя Монгольского государства Чингисхана. Значение этого периода всемирной истории до сих пор остается недооцененным, хотя он был продолжением опыта создания других древних и средневековых империй Востока и Запада.
Государство, власть, империя, центральная азия, преемственность, чингисхан, монголы
Короткий адрес: https://sciup.org/170167604
IDR: 170167604
Текст научной статьи Государство Чингисхана и чингисидов
И стория народов и государственных образований Центральной Азии, пребывавших вдали от Европы в синхронные исторические периоды, имела определенную историческую логику. Она характеризуется, с одной стороны, множеством военных конфликтов, созданием государств на руинах других, с другой – более длительными, нежели периоды военных конфликтов, временами мира и стабильности, торговли и сотрудничества между разными народами и государствами. Гибель государства не означала полного исчезновения завоеванных народов. Опыт предшествующих государств передавался новым государственным образованиям.
Успешному выходу на политическую арену региона северных (керулено-ононских) монголов на рубеже I–II тысячелетий косвенно содействовало значительное сокращение численности этнических тюрков в Центрально-Азиатском регионе, т.к. после уничтожения кыргызами Уйгурского ханства (840 г.) значительная часть уйгуров перекочевала в Восточный Туркестан. Остававшиеся же на старых этнических территориях тюрки были сильно ослаблены междоусобными войнами и оказались вдали от основного ядра тюркских народов.
Монголы как представители кочевой цивилизации, насчитывающей тысячелетнюю историю (начиная от гуннов и вплоть до чжурчженей), в своей объединительной и экспансионистской политике руководствовались историческим опытом государственности в формах, известных в ранних государствах Центральной Азии. Выделим основные признаки кочевых государств.
Среди основных признаков исторических форм институтов номадных государств, которые были восприняты в Монгольском государстве, – территориальноадминистративное деление на «центр», «левую» (восточную) и «правую» (западную) части (улусы), а также на северную и южную, внутреннюю и внешнюю части. Деление территории государства на три основные части известно со времен гуннов. Эта структура государственных территорий известна в государствах сяньби, тибетцев (три рога), тюрков [Кычанов 1997: 287]. У монголов это деление выражалось в терминах «западное крыло» (барун гар – «западная рука»), «восточное крыло» (дзун гар – «восточная рука» и «центр» (töb, oul – «коренной» монгольский улус). В 1231 г. монголы поделили все завоеванные террито- рии на два крупных административно-территориальных образования (крыла), а монгольские этнические территории рассматривались в качестве внутренних земель. Административно-территориальное деление, характерное для государств Центральной Азии, было заимствовано в структуре парных – «левых» и «правых» – должностей в центральном административном аппарате Китая с эпохи Хань. Территориально-административное деление территории на «внутреннюю» и «внешние» впервые обнаруживается у сяньби. Позднее подобную территориальную структуру имело тюркское государство. Управление Тибетом в пору расцвета государства в VII–VIII вв. также осуществлялось на основе «внешних» и «внутренних» территорий империи [Кычанов 1997: 288].
Таким образом, крупные территориально-административные единицы государств Центральной Азии демонстрировали общие признаки крупных государств. Внутри этих основных единиц существовали другие разнообразные формы территориально-административного устройства.
Десятеричная система учета и налогообложения издревле известна в Древней Индии и Китае, кочевых государствах древности и Средневековья. В ее основе лежала военно-административная система учета и контроля государства по людским ресурсам. Ясная и логичная, эта универсальная система позволяла вести учет и контроль хозяйственной деятельности и воинского набора. Интересно, что преемственность этой системы прослеживается и в организации казачьего войска в России, совмещавшего крестьянский хозяйственный уклад с воинской повинностью [Ням-Осор Намсарайн 2003: 134].
Система учета населения, подразумевающая в основе фискальные цели – определение ставки налогообложения и различных податей и повинностей, известна у гуннов. Если сяньби, по мнению китайских авторов, брали «сколько требовалось», то у тюрков существовали десятины, отдаваемые кагану со скота. В земледельческих обществах основной налог составляла продукция сельского хозяйства, а у скотоводов единицей налогообложения служил скот. Так, кидани брали налог овцами, и они составляли жалованье чиновничества. У монголов устанавливался налог кумысом и овцами – подоходный и в пользу государя.
Особое место при персоне государя занимала личная гвардия, которая имела привилегированное положение в армии. Из нее пополнялись ряды высшего чиновничества, а также набирались высшие военные и светские чиновники, участвующие в государственных советах. Во главе личной гвардии стоял главнокомандующий – глава ставки кагана [Кычанов 1997: 291]. В государстве сяньби в гвардию набирали молодых людей из знатных родов. Эта же традиция прослеживается у всех других народов. У тюрков и монголов формирование воинской родовой аристократии связывается с тотемным культом волка и восходит к древнему институту юношеских воинских союзов, основанных на побратимстве. Внутри этой социальной группы существовала собственная идеология и культовая практика. Из среды лидеров дружин происходили первые цари древности и раннего Средневековья. У киданей также существовала практика набора на высшие государственные должности из числа гвардейцев. При дворе Чингисхана и его преемников гвардия, как известно из «Сокровенного сказания», трансформировалась в особую прослойку, из которой набирались в центральный аппарат высшие сановники империи, а также чиновничество различных уровней. Хотя существование военно-бюрократического аппарата не являлось спецификой лишь кочевых государств и в известной степени сохранилось до настоящего времени во многих современных государствах Востока и Запада, тем не менее его также необходимо выделить как характерный признак кочевых государств прошлого.
Существенным признаком наличия государственности в Центральной Азии был съезд представителей правящего клана, высшей администрации государства. Съезды делились на малые и большие в зависимости от важности и задач представительства участвующих в нем людей. Съезд являлся законодательным органом, на котором избирался хаган и другие правители. Он был существенным инструментом в управлении государством, хотя не обладал функцией верховной власти, закрепленной за государем. Съезд как законодательный орган возник в недрах родопле- менной организации и был тесно связан с институтом старейшин, сохранявшимся наряду с более прогрессивными формами управления.
С середины I тысячелетия для части соседних с Китаем государств стала характерной система чиновничьего аппарата из так называемых «шести министерств», охватывающая все нужды любого государства: церемониал, финансы, кадры, армию, органы юстиции и общественные работы общегосударственного значения. Танская система «шести министерств» практиковалась в государстве Наньчжао, а также у киргизов, киданей, чжурчженей, маньчжуров и монголов [Кычанов 1997: 290]. Ее адаптация некитайскими государствами была связана с включением в состав государства значительных территорий с китайским населением.
Четкая организация пространства государства, несмотря на «подвижность», которую определяют как специфическую черту скотоводческого уклада, коренным образом отличного от земледельческого, тем не менее логично предполагает совершенно ясное представление о границах своего государства. Охрана территорий, наряду с обязательной функцией хагана-царя постоянно приращивать территории своего государства, отражена в самых древних политических воззрениях [Антонова и др. 1973].
Концепция монгольского улуса предусматривала наличие государства с географическими границами. Возможно, именно кочевники разработали наиболее эффективную и четко организованную систему охраны границ, т.к. кочевки зависели от распределения пастбищ, что не могло быть постоянным и требовало смены, а значит и разработки специальной стратегии. Пустынность, незанятость какой-либо определенной территории не означала, что это ничья земля, которую можно занять по произволу. Самой основной формой зависимости кочевого социума от своего хана была необходимость строго следовать определенным маршрутом, назначенным в ставке хана. Эта система кочевий складывалась у монголов издревле и являлась фундаментом представлений об организации общества как единого социально-производственного организма.
Созданию монгольской государственности предшествовал длительный этап разработки идеологических концепций власти. Основные понятия теории сакральной власти были разработаны непосредственно в монгольской культурной среде, в т.ч. представления о харизме.
Созданию единого государства монголов в эпоху Средневековья предшествовал длительный период эволюции протомонгольского общества и исторических форм государственности, характерных для опыта кочевой цивилизации в целом. С другой стороны, средневековая государственность монголов развивалась в непосредственном контакте и взаимовлиянии разных культур и цивилизаций. Выход на широкую международную арену монголов, объединенных выдающимся полководцем и государственным стратегом Чингисханом, был предопределен конкретными причинами. В этой связи представляется важным повторить вывод российского историка Г.А. Федорова-Давыдова: «Не дикими варварами-кочевниками были воины Чингисхана... Организованное государство, жесткое своей дисциплиной и поставленными перед ним целями – вот в чем была сила монгольского движения, перед которым все отступало» [Федоров-Давыдов 1981: 163, 202].
Монгольское государство и государственность XIII–XIV вв. обладала основными государствообразующими институтами. Доказано, что стремительность возникновения монгольской государственности не следует рассматривать как результат взрыва некоего сгустка энергии, скапливавшегося на протяжении столетий в ареале орхоно-керуленской этнокультурной общности. Средневековая монгольская государственность вызревала медленно и постепенно на основе многовекового политического опыта государств Центрально-Азиатского региона. Для идеологического закрепления в регионе могущества Монгольского государства, кроме передовых для своей эпохи военного искусства и идей, которыми руководствовался в своей завоевательной политике Чингисхан, существовала необходимость постоянного развития государственной философии, идеологии, совершенствования форм управления, государственных институтов. В период стремительных, осуществляемых небольшим числом войска завоеваний эпохи Чингисхана монголы руковод- ствовались положениями кодифицированной «Ясы», которая произрастала из обычного права кочевников и имела ряд положений, которые трактовали основные представления о законности на территориях завоеванных государств.
Изучение политики Чингисхана на основе новой интерпретации монгольских письменных источников позволяет по-новому реконструировать смысл ряда фрагментов известных письменных памятников эпохи XIII–XIV вв. и сделать выводы, которые, на наш взгляд, помогают более детально рассматривать как феномен Чингисхана, так и средневековую монгольскую государственность в целом. Одним из важнейших факторов успеха завоевания и становления монгольской государственности и государства была выверенная системная политика, которую вел Чингисхан в течение всей своей жизни, начиная с объединения монголов в единое государство до его планов внешнеполитических завоеваний.
Когда Чингисхан был избран всемонгольским ханом, то перед ним стояла задача отомстить чжурчженям за казнь Амбахай-хана, предка Темуджина по линии монгольских ханов. Первый поход в Китай преследовал цель наказать противника, получить средства и технику (осадные машины и инженеров) для похода на Запад. Вместе с тем уже в результате первого китайского похода, судя по данным исторических источников, у Чингисхана вызрела идея организации крупной межконтинентальной торговли между Китаем и Средней Азией дальше на Запад и контроля над ней. Таким образом, решая одну или несколько конкретных задач военного значения, Чингисхан прорабатывал дальнейшую стратегию государственной политики, понимая, что только военными методами невозможно удержать завоеванное.
Переход от военно-экспансионистского этапа доминирования монголов к организационно-административному политическому диктату был направлен на экономическое объединение народов в рамках единой империи и образование региональных династических ветвей Чингисидов на покоренных территориях. Постепенное сращивание завоевателей и местной элиты естественным образом вело к преобразованию представлений о законности, появлению региональнотерриториальных, локальных вариантов свода закона – малых «Яс», более приспособленных к мирному правлению.
Период строительства единого международного пространства между Востоком и Западом наиболее наглядно проявляется через поэтапно осуществляемое становление, развитие и преобразование институтов государственности. Постоянно совершенствовалась административно-территориальная система империи, представленная развитой сетью ямской службы, которая включала общеимперские торговые тракты, курьерскую и фельдъегерскую системы связи. Однако эта система тяжелым бременем ложилась на плечи простого народа и послужила источником коррупции и злоупотреблений со стороны чиновной бюрократии.
Древние воззрения монголов на природу высшей власти – от военного лидера до хана-императора – формировались на основе взаимовлияния идей и представлений, происходивших внутри протомонгольского социума и тех концепций власти, которые были характерны в целом для Центральной Азии в период I тысячелетия. Так, самые ранние представления о хане – военном лидере – были выработаны в недрах магическо-ритуальной практики на основе идеологии воинских союзов. Харизматический лидер в рамках воинской идеологии мыслился как коллективный оберег ударной силы воинской группировки, дружины и шире – всего родового, родоплеменного коллектива. Власть высшего авторитета (военного лидера племенного союза, хана-воина раннего государства) осознавалась не только как рациональное управление подданными, администрирование и защита социума и территорий, но и как исполнение лидером ритуальных магических функций, направленных на увеличение самого социума, расширение подвластных территорий, увеличение приплода скота.
В правление Чингисхана происходит новый виток эволюции представлений о хане и династической модели правления. Культ лидера воинского союза усложняется теорией небесного происхождения предков Чингисхана путем разработки концепции света в легенде о прародительнице Алан-Гоа.
Буддийский религиозный код, разработанный в целях упрочения император- ской династии, заложенной Хубилаем, был призван в очередной раз расширить пределы власти хана-богочеловека и легализовать средневековую монгольскую династическую модель правления как составную часть общебуддийской модели царей-чакравартинов. Вместе с тем буддийская теория высшей власти не отменяла древних представлений монголов о высшей власти хагана, о чем наглядно свидетельствует создание имперского культового мемориального комплекса в честь Чингисхана и его жен. В эпоху Хубилая окончательно формируется официальный культ Чингисхана как верховного божества и покровителя монголов.
Таким образом, период создания, развития и расцвета средневековой монгольской государственности имеет важное историческое значение двоякого рода. Во-первых, на основе средневековой модели государственности ЦентральноАзиатского историко-культурного ареала было создано мобильное и боеспособное государство монголов, заложены основные черты будущей монгольской нации, создан единый литературный язык монголов, а история монголов получила письменное освещение на основе развития письменной культуры. Вторым немаловажным событием мировой истории стало создание мировой империи под эгидой династии потомков основателя Монгольского государства Чингисхана. Значение этого периода всемирной истории до сих пор остается недооцененным. Между тем, опыт средневековой Монгольской империи был продолжением опыта создания других древних и средневековых империй Востока и Запада.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда в рамках научно-исследовательского проекта «Монгольские народы: исторический опыт трансформации кочевых сообществ Азии» № 14-18-00552.
Список литературы Государство Чингисхана и чингисидов
- Антонова К.А., Бонгард-Левин Г.М., Котовская Г.Г. 1973. История Индии. М.: Мысль. 558 с.
- Балданжапов П.Б., Ванчикова Ц.П. 2001. Cayan teuke -«Белая история» -монгольский историко-правовой памятник XIII-XVI вв. -Улан-Удэ. 200 с.
- Кычанов Е.И. 1997. Кочевые государства от гуннов до маньчжуров. М.: Восточная литература. 320 с.
- Ням-Осор Намсарайн. 2003. Монгольское государство и государственность в XIII-XIV вв. -Улан-Удэ: Изд-во Бурятского научного центра СО РАН. 2003. 285 с.
- Федоров-Давыдов Г.А. 1981. Общественный строй Золотой Орды. -Степи Евразии в эпоху Средневековья. М.: Наука.