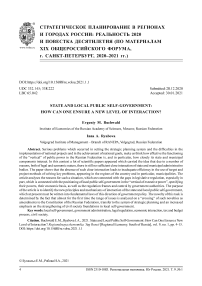Государство и местное самоуправление: как обеспечить новый уровень взаимодействия?
Автор: Бухвальд Евгений Моисеевич, Рябова Инна Алексеевна
Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu
Статья в выпуске: 1 т.9, 2021 года.
Бесплатный доступ
Серьезные проблемы, с которыми столкнулось становление системы стратегического планирования, трудности в реализации национальных проектов и достижении национальных целей развития заставляют задуматься о том, насколько эффективно функционирует «вертикаль» публичной власти в Российской Федерации, в частности, как тесно складывается взаимодействие ее государственной и муниципальной составляющих. На этом фоне появилось немало научных публикаций, в которых проводилась мысль о том, что в силу целого ряда причин как правового, так и экономического характера в стране не обеспечивается тесное взаимодействие органов государственного и муниципального управления. В работе показано, что отсутствие такого четкого взаимодействия ведет к недостаточной эффективности использования программно-целевых и проектных методов решения ключевых проблем, складывающихся в регионах страны и в отдельных муниципальных образованиях. В статье рассмотрены причины создавшейся ситуации, которые связываются, прежде всего, с пробелами законодательного регулирования, особенно в части, касающейся позиционирования институтов местного самоуправления в «вертикали власти», определения их полномочий, экономической базы, а также рамок регулирования и контроля их деятельности со стороны органов государственной власти. Задача статьи заключена в том, чтобы определить те новые принципы и механизмы взаимодействия государства и институтов местного самоуправления, которые подлежат закреплению в правовых основах данного направления государственной политики. Новизна такой исследовательской задачи определяется тем, что практически впервые данный круг вопросов рассматривается на «перекрестье» таких новаций, как изменения и дополнения к Конституции РФ, переход к системе стратегического планирования и возросший акцент на укрепление в местном самоуправлении начал гражданского общества.
Местное самоуправление, государственное управление, правовое регулирование, экономическое взаимодействие, налогово-бюджетный процесс, гражданское общество
Короткий адрес: https://sciup.org/149138046
IDR: 149138046 | УДК: 332.145, | DOI: 10.15688/re.volsu.2021.1.1
Текст научной статьи Государство и местное самоуправление: как обеспечить новый уровень взаимодействия?
Цитирование. Бухвальд Е. М., Рябова И. А., 2021. Государство и местное самоуправление: как обеспечить новый уровень взаимодействия? // Региональная экономика. Юг России. Т. 9, № 1. С. 4–15. DOI: 10.15688/
Постановка проблемы
Одним из наиболее значимых результатов социально-политических и экономических преобразований в Российской Федерации в ходе реформ 1990-х гг. можно считать возрождение системы местного самоуправления, в полной мере отраженное в Конституции РФ 1993 г. [Конституция Российской Федерации, 1993]. Этот шаг обозначил собой одно из наиболее важных продвижений России на пути ее становления как современного демократического государства. Можно утверждать, что развитие местного самоуправления сыграло в демократическом обновлении страны не меньшую роль, нежели федерализация всех государственных структур или переход ее экономики к системе рыночных отношений и свободе предпринимательских инициатив.
Прогресс в развитии местного самоуправления представляется особо значимым еще и потому, что в советский период этот институт фактически был подвергнут огосударствлению с полным выхолащиванием существенных для него начал гражданского общества, механизмов прямого народовластия и пр. Почти до самого развала советской системы (точнее до начала 1990-х гг., то есть до принятия Закона СССР «Об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства») в СССР на правовой основе действовала аналогия института местного самоуправления и системы органов государственной власти на местах (местные советы). Более того, длительное время сам термин «самоуправ- ление» был практически изъят из научного и правового оборота; минимизировалось внимание к опыту России в формировании земского движения, к некоторым новациям самоуправления в самый первый послереволюционный период, к зарубежному опыту в этой сфере и пр. Социальнополитические преобразования на завершающем этапе «перестройки», а затем и принятие Конституции РФ 1993 г. формально завершили утверждение местного самоуправления в стране как особого социально-политического и экономического института.
Однако эти действия, при всей их важности, лишь открыли собой длительный процесс включения местного самоуправления в круг структур публичной власти, оказывающих зримое воздействие на тенденции хозяйственного и социального развития страны. Сложности возникали и возникают в связи с необходимостью соблюсти баланс между местным самоуправлением как интегральным звеном в «вертикали» управления («публичной власти») и его ролью как института гражданского общества, призванного олицетворять и реализовывать собой всю меру ответственности и инициативы населения за развитие соответствующих территорий.
В научной литературе причины подобных трудностей чаще всего связываются с длительным и не во всем последовательным развитием конституционных и правовых основ местного самоуправления в РФ. Основания для такой позиции есть, однако серьезные пробелы и противоречия правового регулирования никогда не возникают сами по себе. Чаще всего они выступают результатом сохранения различных идейнополитических воззрений по тем или иным аспектам социально-экономического и иного характера. Эти пробелы становятся неизбежным следствием инертности политического и экономического мышления; своеобразия взглядов на присущие стране особенности формирования механизмов рыночного хозяйства и институтов представительной демократии.
Особо трудным делом стало преодоление традиционно присущей России убежденности в преимуществах централизованных систем публичного управления. Оказав существенное влияние на действующую модель федеративных отношений, эта убежденность проецировалась и на систему субрегионального управления в виде длительно существовавшего во многих регионах страны стремления «оттеснить» или даже вообще исключить институты местного самоуправ- ления из практики управления социально-экономическим развитием территорий. Хотя крайние проявления подобных тенденций со временем были преодолены, сохраняется понимание того, что российская система самоуправления, ее институциональные и экономические основы нуждаются в дальнейших преобразованиях, а также в их развернутом конституционно-правовом закреплении. Все это, соответственно, требует дальнейших теоретико-методологических разработок в этом направлении на основе сочетания научного анализа с опытом практической работы в муниципальном звене управления.
Российское местное самоуправление: шаги есть, а поступи нет
Хорошо известна работа В.И. Ленина «Шаг вперед, два шага назад» [Ленин, 1918]. В полной мере распространить эту формулу на развитие российского местного самоуправления за последние 25–30 лет было бы неверно, все-таки определенный прогресс налицо. Однако в силу непоследовательности и неполноты осуществленных изменений, их слабой увязки с общим ходом социально-политических и экономических преобразований в стране формула «Два шага вперед, шаг назад» представляется в этом случае вполне уместной. В данной статье мы не предполагаем анализ всех аспектов становления институтов российского местного самоуправления. Внимание будет акцентировано на том, как последовательно складывалась модель взаимодействия формирующегося местного самоуправления с государством, притом что и само российское государство в этот период находилось в развитии его правовых, институциональных и экономических начал, а также его федеративной природы. Важно то, как сегодня видятся перспективы и оптимальные формы этого взаимодействия: оптимальные с точки зрения баланса местного самоуправления как составляющего публичной власти и как института гражданского общества.
Первые попытки восстановить самоуправление в правах особого института демократического государства и общества обозначились в СССР еще в период перестройки. Уже в начале – середине 1980-х гг. наметился отход от предшествующей практики полного огосударствления местной власти; были предприняты попытки реализовать новую политику государства в отношении местных органов власти, предполагавшую усиление их полномочий и ответственности за развитие подведомственных территорий. Все это требовало расширения реальных прав и экономических возможностей органов управления на местах. Результатом продвижения в этом направлении стала, в частности, разработка моделей так называемого регионального и/или муниципального хозрасчета, участие в которой принял и автор данной статьи [Бухвальд, 1988]. Однако эта модель затрагивала лишь некоторые вопросы финансово-бюджетных взаимодействий муниципалитетов и регионов с вышестоящими бюджетами без существенных изменений в круге полномочий этих органов власти по управлению территориями. Это и не позволило довести данную работу до полномасштабного практического внедрения.
Вместе с тем создание условий для устойчивого социально-экономического развития территорий требовало существенного реформирования правовой базы местного самоуправления в стране. В известной мере эту задачу решал Закон СССР от 1990 г. «Об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства в СССР» [Закон СССР № 418-1, 1990]. Этот закон стал первым правовым актом Союза ССР, который сделал реальный шаг к разделению (но не противопоставлению!) органов государственной власти и органов местного самоуправления и, соответственно, к преодолению прежнего статуса местных Советов как фактически низового звена государственного аппарата. Полностью органы местного самоуправления были исключены из системы органов государственной власти в 1992 г. [Лебедева, Лукин, Стронский, 2017].
В качестве последующего продвижения в этом направлении можно назвать такие шаги, как замена в Конституции РСФСР 1978 г. раздела «Местные органы государственной власти» на раздел «Местное самоуправление в РСФСР». Еще одним шагом в данном направлении стало принятие в 1991 г. Закона РСФСР «О местном самоуправлении в РСФСР» [Закон РСФСР № 1550-1, 1991]. Однако этот закон не затрагивал многие стороны деятельности местного самоуправления, формирования его органов; многократно подвергался корректировкам и фактически остался неработающим.
Процесс институционализации местного самоуправления в России получил свое логическое завершение только в 1993 г., когда этот институт на конституционном уровне был окончательно закреплен как особая институция в системе централизованного управления, сочетаю- щая в себе начала публичной власти и гражданского общества. На конституционном уровне российскому местному самоуправлению гарантировалась финансово-экономическая обеспеченность на основе права на собственный бюджет; предоставлялась некоторая самостоятельность в выборе организационных форм муниципализации в пределах узаконений федерального и регионального уровня. Вместе с тем первые несколько лет после всенародного одобрения Конституции РФ 1993 г. продвижение по пути создания новой системы местного самоуправления в стране было ограниченным. Серьезный прогресс в этом направлении наметился только на основе осуществления основных положений Федерального закона от 1995 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [Федеральный закон № 154-ФЗ, 1995].
Однако самые значимые изменения в местном самоуправлении в России обозначились с принятием в 2003 г. Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [Федеральный закон № 131-ФЗ, 2003]. Позитивным и негативным (или, по крайней мере, достаточно спорным) итогам реализации этого закона и инициированной им «муниципальной реформы» посвящено большое количество научных исследований [Бухвальд, 2020; Диденко, 2019]. Заметим только, что на основе реализации данного закона и с учетом последующих многочисленных корректировок удалось сформировать в нем представительный перечень вопросов местного значения, причем дифференцировано для различных видов муниципалитетов. Стало возможным закрепить условия выполнения и финансирования переданных органам местного самоуправления государственных («делегированных») полномочий. Пусть и достаточно формально, но все же были обозначены формы прямого «включения» населения в осуществление основных функций местного самоуправления (гл. 5 ФЗ № 131).
Постоянство реформ в сфере местного самоуправления в принципе характерно и для других стран, в частности, для послевоенной Германии [Von Saldern, 1999; Walter-Rogg, 2010; Wollmann, 2002]. Но здесь заметна четкая направленность реформ: укрупнение муниципальных образований; укрепление их экономической базы; сохранение права немецких земель (субъектов Федерации) на выбор той или иной модели организации местного самоуправления и пр. Однако закрепленная в ФЗ № 131 система институтов местного самоуправления оказалась недостаточно адаптированной к российским условиям: впоследствии ее пришлось существенно изменять и дополнять [Овчинников, Космина, 2009]. Изначально акцентированный в ФЗ № 131 курс на децентрализацию местного самоуправления быстро сменился трендом на сокращение числа муниципалитетов за счет различных вариантов их объединения.
Но наиболее значимо то, что в ФЗ № 131 все еще остается без достаточного раскрытия целый ряд принципиальных вопросов, касающихся позиционирования местного самоуправления в экономической и социально-политической системе страны. Так, это касается важного конституционного положения о невхождении органов местного самоуправления в систему органов государственной власти. Сначала без особых разъяснений это положение Конституции 1993 г. было повторено в ФЗ № 154 (п. 5 ст. 14) и затем включено и в ФЗ № 131 (п. 4 ст. 34). В отсутствие официальных разъяснений, экспертами давались различные трактовки этого «невхождения» – от чисто процедурной стороны в рамках «вертикали» принятия управленческих решений до аналогии «невхождения» с полным отделением местного самоуправления от государства [Рыков, 2017]. Однако, если та или иная конституционная формула становится мотивацией принципиально различных мнений по тому или иному вопросу, то соответствующая конкретизация этой формулы становится существенной необходимостью.
По нашему мнению, любая упрощенная трактовка формулы об «“отделенности” местного самоуправления от государства» не имеет достаточных правовых и экономических оснований. Свидетельством этому служит, прежде всего, установленный законом значительный перечень полномочий Российской Федерации и ее субъектов по формированию правовых, экономических и институциональных основ местного самоуправления (ст. 5 и 6 ФЗ № 131). Еще одной существенной стороной взаимодействия государства и муниципалитетов выступает возможность для государственных структур в отдельных случаях принимать участие в формировании органов местного самоуправления и их должностных лиц.
Важным инструментом «сопряженности» государства и муниципальной власти является установленная законом (ст. 18.1 ФЗ № 131) практика оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. Методика подоб- ной оценки утверждена в 2008 г. (в редакции от 9 мая 2018 г.) «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» [Указ Президента РФ № 607, 2008]. Сейчас эта оценка осуществляется на основе 13 показателей. Главным «контролером» в данном случае выступает высший орган государственной власти субъекта Федерации, куда главы городских округов и муниципальных районов должны каждый год предоставлять соответствующие доклады. Конечно, в данном случае сложно говорить именно об «эффективности деятельности», так как в экономическом контексте эффективность определяется отношением эффекта (результата) к затратам, а ни один из используемых в данном случае показателей по этому принципу не построен. Но факт определенной поднадзорности системы муниципального управления институтам государственной власти вполне очевиден.
Разумеется, названными выше позициями не ограничиваются все аспекты взаимодействия государства и муниципалитетов, хотя не все ранее заявленные принципы такого взаимодействия выдерживают проверку временем. Прежде всего, это касается механизмов взаимодействия государства и местного самоуправления в финансово-бюджетной сфере. О какой «отделенности» местного самоуправления от государства можно говорить, если это самоуправление фактически функционирует за счет государственных средств, особенно, если считать государственными средствами все виды поступлений в местные бюджеты за исключением собственно местных налогов. По данным последнего по времени обследования, проводимого Министерством финансов РФ (за 2019 г.), на местные налоги, которых в настоящее время насчитывается всего 2, приходится 15,8 % налоговых доходов местных бюджетов и 6,7 % их собственных доходов в целом [Информация о результатах проведения ... , 2020]. Без опоры на государственные финансовые ресурсы российское местное самоуправление сразу же оказалось бы на положении полного банкрота.
Тесное взаимодействие органов государственной власти и органов местного самоуправления обеспечивается также активным участием последних в реализации большого круга государственных полномочий (прежде всего, социального характера), переданных им, прежде всего, со стороны субъектов Федерации. По данным за 2019 г., расходы по реализации таких передан- ных полномочий формировали около 33 % расходной части местных бюджетов городских округов и 42 % расходной части местных бюджетов муниципальных районов [Информация о результатах проведения ... , 2020].
Однако, как было отмечено выше, принципы финансово-бюджетного взаимодействия государства и муниципалитетов со временем эво-люционизируют. Например, если обратиться к ФЗ № 154, то мы увидим, что в этом законе имелись «жесткие» акценты на ответственность государства с точки зрения финансово-бюджетной обеспеченности институтов местного самоуправления. Так, закон относил к числу полномочий Федерации в отношении местного самоуправления такие важные для муниципалитетов обязательства, как «установление государственных минимальных социальных стандартов»; «принятие федеральных программ развития местного самоуправления»; «обеспечение федеральных гарантий финансовой самостоятельности местного самоуправления». В числе полномочий субъектов Федерации находились такие позиции, как «обеспечение сбалансированности минимальных местных бюджетов на основе нормативов минимальной бюджетной обеспеченности»; «обеспечение гарантий финансовой самостоятельности местного самоуправления»; «обеспечение государственных минимальных социальных стандартов». Конечно, в последнем случае несколько смущает многократная отсылка в законе на некую «минимальность» обязательств, но сам принцип гарантий государства в отношении органов местного самоуправления здесь определенно просматривался.
Столь длительный экскурс был необходим для того, чтобы определить тренд изменения взаимодействия государства и местного самоуправления в самом чувствительном вопросе – в вопросе о состоянии местных финансов. Следует отметить, что ранее финансовые аспекты деятельности органов местного самоуправления определялись Федеральным законом № 126-ФЗ «О финансовых основах местного самоуправления в Российской Федерации» [Федеральный закон № 126-ФЗ, 1997]. Но с 2009 г. действие этого закона было полностью приостановлено. В настоящее время регулирование данных вопросов полностью отнесено к сфере федерального налогового и бюджетного законодательства. Эволюция позиции государства в отношении финансового обеспечения местных бюджетов хорошо иллюстрируется сравнением названных выше положе- ний предшествующего ФЗ № 154 и действующего ФЗ № 131 по местному самоуправлению.
В ФЗ № 131 данный круг вопросов регулируется гл. 8 «Экономическая основа местного самоуправления». Однако теперь, в отличие от ФЗ № 154, здесь полностью исключены какие-либо указания на федеральные гарантии финансовой самостоятельности местного самоуправления, на обеспечение минимальных местных бюджетов на основе установленных государством минимальных социальных стандартов и пр. По сути, остался нереализованным и пункт ФЗ № 154 относительно разработки и реализации федеральных программ развития местного самоуправления. В целостном виде таких программ не было никогда. Ранее принимавшиеся и ныне действующие программы (например, развития малых городов, поддержки моногородов, развития сельских поселений) ориентировались на решение экономических и социальных проблем отдельных типов муниципальных образований, но не имели в основе цель развития самого института местного самоуправления в совокупности всех его экономических, правовых и иных составляющих.
Неким паллиативом целостной программы действий в отношении местного самоуправления следует рассматривать «Основные положения государственной политики в области развития местного самоуправления в Российской Федерации» [Указ Президента РФ № 1370, 1999]. На данный момент «Основные положения...» 1999 г. не просто устарели, но и по современным представлениям очень декларативны [Бухвальд, 2020]. Не случайно одним из центральных положений, сформулированных Президентом РФ В.В. Путиным на заседании Совета по развитию местного самоуправления 30 января 2020 г., стало предложение «начать разработку проекта новых Основ государственной политики в сфере развития местного самоуправления на период до 2030 года».
Но это в будущем, а пока складывается впечатление нарастающего противоречия. С одной стороны, государство как бы усиливает свои требования в отношении местного самоуправления, в частности, в плане активного участия в реализации и софинансировании государственных программ и национальных проектов, в достижении «национальных целей развития». С другой стороны, заметно, что государство постепенно снимает с себя гарантии относительно достаточности местных бюджетов, формирующих основу экономической самостоятельности и управленческой активности муниципалитетов разного уровня. В этом противоречии кроется исток целого ряда проблем, с которыми столкнулось становление системы стратегического планирования в стране, включая недостаточную эффективность применения программно-целевых и проектных методов управления, трудности в реализации национальных проектов и пр.
В конце концов, любая программа или проект в своих составляющих «приземляется» на территории того или иного муниципалитета. В этой связи отсутствие четкого разграничения полномочий между государством и муниципалитетами (например, в вопросах землепользования); требование определенной доли софинансирова-ния со стороны муниципалитетов при их финансовой необеспеченности ведет к дополнительным трудностям при реализации программ и проектов [Савина, Паздникова, Шелестова, 2018] или смещает их локализацию к экономически более сильным муниципальным образованиям. В этой связи привлечение муниципальных образований к реализации федеральных и региональных программ и проектов требует государственных гарантий формирования адекватных финансовых ресурсов муниципалитетов и, соответственно, обеспечения их равных возможностей на участие в этих программах и проектах.
Местное самоуправление как институт партнерства государства и гражданского общества
В последние 20 лет неудовлетворенность состоянием российского местного самоуправления многократно констатировалась (хотя и с различных позиций) органами государственной власти федерального и регионального уровней, учеными и экспертами, представителями самого муниципального сообщества. Важными вехами на пути преодоления этой ситуации стали заседания Совета по развитию местного самоуправления (Совет по местному самоуправлению в Российской Федерации и Положение об этом Совете были утверждены в 1997 г. [Указ Президента РФ № 531, 1997]). «Красной нитью» через все подобные заседания, прежде всего, прошла тема укрепления местных финансов, которая и сегодня остается не менее актуальной, нежели 15–20 лет назад. Однако было бы неправильно сводить стратегический курс развития российского местного самоуправления только к укреп- лению финансово-бюджетных основ его деятельности. Во многом развернутая позиция по данному вопросу была изложена в материалах Совета по местному самоуправлению в январе 2020 г. и теперь подлежит конкретизации в новых Основах государственной политики в этой сфере, которые уже были упомянуты нами выше. Однако помимо новых «Основ...» для решения проблем российского местного самоуправления необходимы значимые правовые новации.
Тот факт, что конституционные преобразования 2020 г. затронули и те статьи Конституции РФ, которые регулируют основы российского самоуправления, свидетельствует о том, что изначально данные здесь формулировки себя во многом изжили. Что конкретно подверглось изменению? С учетом темы данной статьи наиболее значима коррекция двух статей Конституции 1993 г., входящих в гл. 8 «Местное самоуправление». Наибольшего внимания заслуживает внесение поправок в п. 3 ст. 132, где (дополнительно к названному выше принципу «невхождения») теперь указывается: «Органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей территории» (в первоначальной редакции Конституции РФ 1993 г. вообще не использовалось понятие «публичная власть» как закрепление единства и взаимодействия государственной власти и местного самоуправления).
Примерно в том же ракурсе смотрятся и дополнения в ст. 133, где ныне закреплено право органов самоуправления на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате выполнения органами местного самоуправления во взаимодействии с органами государственной власти публичных функций (выделено нами. – Е. Б., И. Р .).
Конечно, практический смысл этих конституционных новаций еще предстоит законодательно конкретизировать. Но в целом складывается впечатление, что, несмотря на многочисленные констатации необходимости сохранить и даже еще более обеспечить самостоятельность местного самоуправления, ключевым направлением реформирования этой сферы публичного управления, усиления ее вклада в решение актуальных хозяйственных и социальных задач пока все-таки видится именно усиление факторов государственного регулирования и контроля. Однако за- кономерность такова, что подобный шаг, во всяком случае на известный период времени, действительно укрепляет позиции такового как субъекта публичной власти, как низового звена в «вертикали управления». Однако именно на время, так как постоянно движение в этом направлении ведет к нарастающему дисбалансу в институциональной природе местного самоуправления, поскольку для своего устойчивого функционирования и выполнения возложенных на него функций оно должно сбалансировано опираться на две «ноги»: с одной стороны, на государственное регулирование и контроль; с другой – на инициативу и ответственность гражданского общества [Семенов, 2019].
Именно в этом балансе институциональных начал, а не в элементарной достаточности средств местных бюджетов, видится сегодня главное условие той самой самостоятельности местного самоуправления, значимость которой столь многократно подчеркивалась на всех уровнях. Тем более это важно, поскольку только что принятые поправки к Конституции РФ (ст. 133) специально характеризуются «запретом на ограничение прав местного самоуправления, установленных Конституцией РФ и федеральными законами». Именно на таком подходе строится практика правового регулирования местного самоуправления за рубежом [Саудаханов, 2017; Хазов, Саудаханов, 2017; Кузнецов, Межевич, Шамахов, 2019; Шастина, 2019]. Не случайно во многих странах мира идет постоянное научное и практическое развитие принципа «муниципальной автономии» как одного из наиболее существенных в построении взаимодействий государства и местного самоуправления [Schmidt, 2012; Berman, 2019; Blair, 1991; Макагонова, 2019].
Именно в названном выше балансе мы видим не актуальный лозунг, а ключ к решению многих практических проблем российского местного самоуправления и формирования нового уровня взаимодействия между государством и муниципальным сообществом. Его последовательное осуществление во многом позволит уйти от «волн» децентрализации и децентрализации российских муниципалитетов и выбрать те институциональные и экономические параметры муниципальных образований, которые в наибольшей степени будут соответствовать условиям каждого из регионов России.
Кроме того, весьма востребованы те правовые новации, которые в каждом конкретном случае в наибольшей мере обеспечивают исполь- зование установленных ФЗ № 131 непосредственных форм народовластия (сходы и опросы граждан, публичные слушания, общественные обсуждения; местные референдумы). Более того, учитывая отсутствие у нас прочных традиций гражданских инициатив и ответственности, было бы разумно закрепить в законе и развернуть в названных выше «Основах...» принцип обязательности использования тех или иных непосредственных форм народовластия при решении вопросов экономического, институционального и иного характера, относящихся к данному муниципальному образованию [Мельников, 2018; Козодубов, 2019].
В контексте формирования устойчивой финансово-бюджетной базы местного самоуправления укрепление в таковом начал гражданского общества позволит шире использовать практику «инициативного бюджетирования», мобилизации средств путем целевого самообложения граждан и пр. Наконец, государственный контроль за деятельностью органов местного самоуправления может значительно усилить свою результативность, если будет подкреплен активизацией такого контроля со стороны населения и его общественных организаций.
Заключение
Можно утверждать, что новый уровень взаимодействий между государством и местным самоуправлением представляет собой системное понятие, включающее в себя качественное и стабильное законодательное регулирование; долговременное стратегирование развития территорий; экономическую самодостаточность муниципалитетов; согласованное участие государства и муниципалитетов в реализации инструментов программного и проектного управления; партнерские отношения на основе баланса публичной власти и гражданского общества. Конечно, новации, реализованные в ходе дополнений к Конституции РФ, не «закроют» сразу все проблемы, связанные с совершенствованием взаимодействия государственного и муниципального управления в стране. Однако они, несомненно, сформируют собой основной вектор для дальнейшей работы в этом направлении путем тщательной подготовки документов, отражающих стратегическое видение перспектив российского местного самоуправления и возможности решения сохраняющихся здесь проблем. Стратегическую перспективу российского самоуправления мы рассматриваем в контексте укрепления роли местного самоуправления как институционализации «партнерства» государства и гражданского общества, что наиболее полно и точно раскрывает смысл правовой формулы о не-вхождении органов местного самоуправления в систему органов государственной власти. Формирование рассмотренного выше баланса публичноправового и гражданского начал в институциональной природе российского местного самоуправления и составляет одну из принципиальных позиций, которые должны определять ключевые положения новых «Основ...» данного направления государственной политики. Эти «Основы...» должны стать ключевым элементом Стратегии развития российского местного самоуправления как одного из документов, формирующих стратегическое видение будущего российской государственности, ее социально-экономических основ, а также дальнейшего развития всех форм современных общественных отношений.
Список литературы Государство и местное самоуправление: как обеспечить новый уровень взаимодействия?
- Бухвальд Е. М., 1988. Региональный хозрасчет и местный бюджет // Знамя Ильича (Нарофоминск (Московская область)). № 46. С. 50.
- Бухвальд Е. М., 2020. Российское местное самоуправление: старые проблемы и новые задачи // Самоуправление. № 1. С. 24–28.
- Диденко А., 2019. Актуальные направления развития местного самоуправления // Самоуправление. № 3 (116). С. 4–13.
- Закон СССР «Об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства в СССР» : утв. постановлением Верховного Совета СССР от 9 апр. 1990 г. № 418, 1990 (прекратил действие) // Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. URL: http://docs.cntd.ru/document/901817750.
- Закон РСФСР от 6 июля 1991 г. № 1550-1 «О местном самоуправлении в РСФСР», 1991 // Законодательная база Российской Федерации. URL: https://zakonbase.ru/content/base/4710.
- Информация о результатах проведения мониторинга исполнения местных бюджетов и межбюджетных отношений в субъектах Российской Федерации на региональном и муниципальном уровнях за 2019 год, 2020. URL: https://www.minfin.ru/ru/perfomance/regionsresults/Monitoring_local/results/?id57=130321.
- Козодубов А. А., 2019. Реализация форм непосредственной демократии при осуществлении местного самоуправления // Государственная власть и местное самоуправление. № 6. С. 27–31. DOI: 10.18572/1813-1247-2019-6-27-31.
- Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993, с изм., одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020, 1993. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399.
- Кузнецов С. В., Межевич Н. М., Шамахов В. А., 2019. Пространственный аспект эволюции местного самоуправления в Российской Федерации: возможности учета зарубежного опыта // Управленческое консультирование. № 9 (129). С. 8–18. DOI: 10.22394/1726-1139-2019-9-8-18.
- Лебедева А. Д., Лукин В. К., Стронский Д. Д., 2017. Политико-правовая характеристика местного самоуправления в советском государстве завершающего периода // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. № 10. С. 121–124.
- Ленин В. И., 1974 (1918). Очередные задачи Советской власти // ПСС. Изд. 5-е. Т. 36. М. : Изд-во полит. лит. С. 165–208.
- Макагонова Н. М., 2019. Зарубежный опыт местного самоуправления: возможность применения в России // Вестник экспертного совета. № 2 (17). С. 31–35.
- Мельников И. А., 2018. Местное самоуправление: между гражданским обществом и государством // Вестник Воронежского института экономики и социального управления. № 3. С. 23–38.
- Овчинников В. А., Космина И. А., 2009. Органы местного самоуправления: проблемы формирования // Управленческое консультирование. № 3 (35). С. 46–54.
- Рыков А. Н., 2017. О смыслах существования местного самоуправления // Государство и право. № 9. С. 58–64.
- Савина О. Н., Паздникова Н. П., Шелестова Д. А., 2018. Формирование доходной базы местных бюджетов в условиях стратегических преобразований // Региональная экономика. Юг России. № 2. С. 129–138. DOI: 10.15688/re.volsu.2018.2.15.
- Саудаханов М. В., 2017. Государственная власть и местное самоуправление в зарубежных государствах: модели соотношения // Международный журнал конституционного и государственного права. № 2. С. 18–20.
- Семенов М. И., 2019. Государственное вмешательство как ограничение самостоятельности местного самоуправления // Государственная власть и местное самоуправление. № 2. С. 19–25. DOI: 10.18572/1813-1247-2019-2-19-25.
- Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 1997 г. № 531 «О Совете по местному самоуправлению в Российской Федерации», 1997. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/11001.
- Указ Президента РФ от 15 октября 1999 г. № 1370 «Об утверждении Основных положений государственной политики в области развития местного самоуправления в Российской Федерации», 1999. URL: https://base.garant.ru/181076.
- Указ Президента РФ от 24 апреля 2008 г. № 607 (в ред. От 9 мая 2018 г.) «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», 2008. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76576.
- Федеральный закон от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
- управления в Российской Федерации» (утратил силу), 1995. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7642.
- Федеральный закон от 25 сентября 1997 г. № 126-ФЗ «О финансовых основах местного самоуправления в Российской Федерации» (утратил силу), 1997. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/11520.
- Федеральный закон № 131-ФЗ от 06 октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 2003. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/20035.
- Хазов Е. Н., Саударханов М. В., 2017. Местное самоуправление Европейских государств // Вестник Московского университета МВД. № 3. С. 158–161.
- Шастина А. Р., 2019. Конституционные нормы о местном самоуправлении в России и зарубежных странах: сравнительно-правовой анализ // Государственная власть и местное самоуправление. № 6. С. 60–64. DOI: 10.18572/1813-1247-2019-6-60-64.
- Berman D. R., 2019. Federal, State, and Local Relations. Chapter 2 // Local Government and the States. New York : Routledge. P. 52–58.
- Blair P., 1991. Trends in Local Autonomy and Democracy: Reflections from a European Perspective // Local Government in Europe. Government beyond the Centre / eds.: R. Batley, G. Stoker. London : Palgrave. P. 41–49. DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-349-21321-4_3.
- Schmidt K. H., 2012. Determinant Factors of Economic Development and Local Economy: Theoretical Concepts in Retrospect // Two Centuries of Local Autonomy. The European Heritage in Economics and the Social Sciences / J. Backhaus (ed.). Vol. 13. New York : Springer. P. 13–28. DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-4614-0293-0_3.
- Von Saldern A., 1999. Rückblicke. Zur Geschichte der kommunalen Selbstverwaltung in Deutschland // Kommunalpolitik / H. Wollmann, R. Roth (eds.). Wiesbaden : Verlag für Sozialwissenschaften. P. 23–36.
- Walter-Rogg M., 2010. Multiple Choice: The Persistence of Territorial Pluralism in the German Federation // Territorial Choice / H. Baldersheim, L.E. Rose (eds.). London : Palgrave Macmillan. P. 138–159.
- Wollmann H., 2002. Recent Democractic and Administrative Reforms in Germany’s Local Government: Persistence and Change // Local Government at the Millenium / J. Caulfield, H. O. Larsen (eds.) ; Urban Research International. Wiesbaden : Verlag für Sozialwissenschaften. P. 63–89.