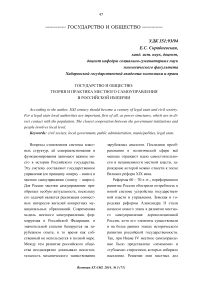Государство и общество: теория и практика местного самоуправления в Российской империи
Автор: Скрабневская Е.С.
Журнал: Вестник Хабаровской государственной академии экономики и права @vestnik-ael
Рубрика: Государство и общество
Статья в выпуске: 3, 2014 года.
Бесплатный доступ
По мнению автора, XXI век должен стать веком правового государства и гражданского общества. Для правового государства местные власти важны, прежде всего, как силовые структуры, которые находятся в непосредственном контакте с населением. Ближайшее сотрудничество между государственными учреждениями и людьми связано с местным уровнем.
Короткий адрес: https://sciup.org/14319845
IDR: 14319845
Текст научной статьи Государство и общество: теория и практика местного самоуправления в Российской империи
Вопросы становления системы властных структур, её совершенствования и функционирования занимают важное место в истории Российского государства. Эту систему составляют государственное управление (по принципу «сверху – вниз») и местное самоуправление («снизу – вверх»). Для России местное самоуправление приобретает особую актуальность, поскольку его задачей является реализация совместных интересов жителей конкретных муниципальных образований. Современная модель местного самоуправления, формируемая в Российской Федерации, в значительной степени базируется на зарубежном опыте, в то время как собственный не используется в полной мере. Между тем развитие российского общества неоднократно доказывало несостоятельность механического заимствования зарубежных аналогов. Последние преобразования в политической сфере всё меньше отражают идею самостоятельности и независимости местной власти, зарождение которой можно отнести к эпохе Великих реформ XIX века.
Реформы 60 – 70-х гг., пореформенное развитие России обострили потребность в новой системе устройства государственной власти и управления. Земская и городская реформы Александра II стали началом нового этапа в развитии местного самоуправления дореволюционной России, хотя его элементы существовали и на более ранних этапах исторического развития российской государственности. Так, при Иване IV местное самоуправление было представлено «земскими» и «губными» старостами, которых избирало население. Решение ими местных дел считалось второстепенным делом, поскольку старосты, подчиняясь воеводам, преимущественно выполняли распоряжения центральной власти.
Кроме того, позднее выборное начало в организации местного управления было вытеснено бюрократическим. С именем Петра I связано появление Главного магистрата, которому были подчинены местные магистраты во главе с бурмистрами и ратманами – выборными должностными лицами, но до 1785 г. города управлялись правительственными органами и сословными учреждениями. По Жалованной грамоте городам Екатерины II город впервые стал рассматриваться как обособленная общественная единица, совокупность всех жителей, несущих обязанности и пользующихся определёнными правами. Система местного управления была существенно преобразована, реформы тесно связали местное самоуправление с сословным строем, большинство вопросов решалось представителями благородных сословий под строгим контролем государства. Екатерина II стремилась создать из всех сословий ряд местных организаций («сословных обществ»), предоставив им права «по внутреннему управлению сих обществ» и возложив на эти организации осуществление большинства задач местного управления. В некоторой степени в самоуправлении могли участвовать все жители города без различия сословий. Каждые три года городские обыватели избирали городского голову, бургомистров и ратманов, каждый год – городского старосту и судей совестного суда. Кроме того, из купцов на три года избирали заседателей губернского магистрата и совестного суда. Для управления городскими делами избирались общая и шестигласная городские думы. Городская общая дума должна была собираться раз в год, а также по необходимости. Шестигласная дума учреждалась для повседневного управления городскими делами. Дума занимались обеспечением мира и спокойствия между жителями; доставкой продовольствия; наблюдением за сохранностью городских зданий; устройством площадей, пристаней, амбаров и проч.; увеличением городских доходов; созданием заведений общественного призрения и т.д.
Кроме того, дума содержала магистрат, городские школы и другие заведения приказа общественного призрения [2, с. 358 – 384].
Однако присутствие выборных в губернских и уездных учреждениях не создало подлинного самоуправления в полном смысле этого слова, поскольку ни о какой самостоятельности и независимости земского капитана-исправника или выборных законодателей екатерининских учреждений от городов или от крестьян по отношению к губернатору, губернским чиновникам не могло и быть речи.
Должность городского головы возникла не одновременно с учреждением думы, а гораздо раньше – в 1767 г., когда Екатерина II задумала созвать Уложенную комиссию и предписала всем служащим и городам избрать депутатов. Для председательства на избирательных собраниях при выборе депутатов были избраны городские головы сроком на два года. Никаких иных обязанностей на них не возлагалось, хотя в 1771 г. эта должность стала постоянной. В 1775 г. при из- дании Учреждения о губерниях городские головы были назначены председательствующими в сиротском суде. При введении Жалованной грамоты 1785 г. эта должность приобрела большую значимость, так как городские головы стали председателями городских дум и официальными представителями городов.
Со временем в городовом положении произошли изменения, основанные как на законодательных постановлениях, так и в силу обычая. Так, например, общая городская дума во многих городах совершенно исчезла, а в других потеряла своё значение, осталась только шестигласная, состав которой накануне 1870 г. включал городского голову, 5 гласных от купцов и по одному от мещан и цеховых. Разночинцы и дворяне, составлявшие значительную часть настоящих городовых обывателей, совершенно отстранились от городской службы. Кроме того, городское управление было подчинено администрации, без разрешения которой оно не могло ни сметы составить, ни произвести каких-либо особых расходов. В городском управлении своё значение сохранил только городской голова, избиравшийся из богатых и влиятельных купцов, что вполне объяснимо, так как для исполнения общественных обязанностей ему приходилось использовать собственные средства. Государство неоднократно предпринимало попытки придать организационную форму и крестьянскому самоуправлению. До начала XVII в. особый статус крестьянских общин определялся в первую очередь их церковнорелигиозными функциями: группируясь вокруг храмов, они составляли приход- ские общины; выбирали кандидатов в священники, церковных старост для заведования приходскими хозяйственными средствами; наблюдали за нравственностью и порядком в своём приходе. Однако такое положение было характерно только для крестьянских общин северных областей России, так как в южных уездах обезземеливание крестьян и их постепенное закрепощение стремительно сокращали сферу деятельности местного самоуправления. Поскольку в северных уездах не существовало чёткого правового и экономического разграничения между посадом и селом, органы местного самоуправления иногда формировались совместно и горожанами, и крестьянами. События «бунташного века» привели к ослаблению общинного самоуправления. Формирование абсолютизма сопровождалось усилением административного начала, «тяжёлая рука воеводы придавила органы местного самоуправления» [4, с. 20]. Хотя в некоторых северных городах (Устюг, Сольвычегодск, Тотым) и во второй половине XVII в. сохранялась выборная власть в лице земского старосты, компетенция которого распространялась на население посада и уезда, главной обязанностью земских старост и их помощников (целовальников) стали раскладка и сбор податей с крестьянского населения. На протяжении всего XVII в. правительство не могло окончательно определить своё отношение к местному самоуправлению: должности губных старост то упразднялись, то вновь восстанавливались по челобитным для отдельных общин. Случалось, полномочия местного самоуправления некоторых территорий распространялись на все отрасли областного управления, заменяя даже власть воевод. Окончательно должности губных старост были ликвидированы только в 1702 году.
Во второй половине XVIII в. правительство вновь обращается к вопросу организации крестьянского самоуправления.
Для черносошных крестьян указами 1760-х гг. крестьянские сходы признаются законной формой самоуправления. Указ 1769 г. возложил на крестьянских старост и выборных ответственность за правильное поступление подушной подати. Казённые крестьяне должны были по-прежнему выбирать особых выборных для несения различных казённых служб: целовальников для продажи вина и соли, различных счётчиков, сторожей, караульщиков и т.д. С 1774 г. выборные должности появляются и в дворцовых волостях: старосты, выборные, сотские, десятские, сборщики податей, волостные писари (с начала XVIII в. – земские дьячки, затем просто земские). Иногда избирали и особых челобитчиков для подачи просьб и жалоб правительству.
7 августа 1797 г. Положением о составлении волостей из казённых селений и о порядке их внутреннего управления на территории волости с численностью не более 3 тыс. мужчин вводилось волостное правление, состоявшее из волостного головы, избиравшегося на 2 года, старосты или «выборного» того поселения, где располагалось волостное правление, и волостного писаря. В каждом селении волости на год избирали «выборного», должностные обязанности которого соответствовали компетенции старосты, кро- ме того, каждые 10 дворов для поддержания полицейского порядка избирали по одному десятскому. К традиционным обязанностям – взысканию податей и сборов, сохранению порядка, благочиния и безопасности, крестьянскому самоуправлению добавили судебное разбирательство и расправу по маловажным спорам и искам между поселянами, опеку над вдовами и сиротами, надзор за ленивыми и нерадивыми. Не обошли своим вниманием крестьянское самоуправление и правители первой половины XIX в.: указы 1805 г., 1811 г., 1812 г. уточнили состав мирского схода, формы его постановлений, судебные и административные функции. При проведении кодификации в IX том Свода законов Российской империи (1832 г.) было включено постановление о правах и обязанностях сельского общества. В соответствии с этим постановлением сельские обыватели по хозяйственным делам составляли сельские общества, а для управления и суда соединялись в волости. Сельские общества были учреждены в каждом большом селении, несколько небольших соединялись в одно сельское общество.
В каждом сельском обществе и в каждой волости заведование общественными делами предоставлялось миру и его выборным должностным лицам [6, ст. 608]. В соответствии со ст. 406 – 408 сельские обыватели каждого отдельного поселения составляли своё сельское мирское общество и свой мирской сход. Объединение сельских обывателей одной волости образовывало волостное мирское общество. На мирских сходах, кроме выборов должностных лиц и раскладки податей, оброка и повинностей, рассматривались вопросы о разрешении крестьянам переселяться в другие области; на основании заявлений крестьян включали в общество либо исключали из него; распределяли общинный земельный фонд; выделяли общинные земли для организации сельскохозяйственных и промышленных предприятий; выдавали доверенности для представления интересов общины в административных и судебных учреждениях. Кроме того, на сходы возложили судебные полномочия по разбирательству незначительных проступков крестьян и привлечению их к ответственности. Сельские власти выполняли и фискальные функции, хотя в основном они сводились к взысканию налогов. Положение органов крестьянского самоуправления было пересмотрено с образованием в 1837 г. Министерства государственных имуществ, внесшего изменения в губернские сельские полицейские и сельские судебные уставы.
Теперь для решения текущих дел трижды в год созывались сельские сходы из уполномоченных («выборных»), избиравшихся на три года по одному от каждых пяти дворов. Полномочия сходов были дополнены правом устанавливать денежный сбор на мирские нужды, распределять рекрутскую повинность, назначать опекунов для малолетних. На сходе избирались сборщик податей и сотский как представитель общей земской полиции.
Сельское управление составляли сельский старшина, избиравшийся на три года, и от 1 до 3 старост. Обязанности низших служителей при сельском начальстве и при сотском выполняли десятские, которые назначались из числа крестьян по очереди на один месяц по одному на каждые 10 – 20 дворов. Управление могло в перерывах между сходами записывать в состав общества и исключать из списков, раскладывать подати и разделять земли между крестьянами. Таким образом, и состав, и функциональные обязанности крестьянского самоуправления стали более сложными и более ориентированными на запросы государства. Органы волостного управления были представлены волостными сходами и волостного правления – волостного головы, который должен был «обращать внимание на все предметы сельского устройства и управления», и двух заседателей [4, с. 36].
Сход формировался из выборных от сельских обществ (по одному от каждых 20 дворов) и собирался один раз в три года для выборов волостного правления и членов волостного суда («расправы»). Избранные в волостное правление лица по представлению окружного начальника утверждались палатой государственных имуществ, что позволяло царской администрации влиять на формирование органов крестьянского самоуправления. Даже волостной писарь назначался окружным начальником. С отменой крепостного права, с созданием земских и городских учреждений на очередь была поставлена и реформа крестьянских сельских учреждений. Постепенно сельский сход становится полным хозяином деревни: «Это – та же дума, земское собрание. Сход постановляет – волостное правление исполняет» [3, с. 6]. Именно с Положения 19 февраля 1861 г. началась более полная реформа самоуправления.
Это была попытка создать нечто вроде единой системы общественного управления, где должны были взаимодействовать как всесословные учреждения, так и такие сословные формы, как крестьянское, мещанское, дворянское корпоративное управление и т.д. Во второй половине XIX столетия в России существовали различные концепции местного самоуправления, среди которых особенно распространёнными были следующие:
– общественно-хозяйственная, исходившая из того, что самоуправление должно представлять собой общины, самостоятельно занимающиеся хозяйственными делами при минимальном контроле со стороны государства;
– теория юридических лиц. Сторонники этой позиции полагали, что органы самоуправления должны выполнять функции государственного управления, но при этом они являются органами не государства, а городской и сельской общины;
– государственная теория, согласно которой местное самоуправление является частью государства и создаётся для выполнения задач государственного управления;
– политическая теория, противопоставлявшая общинное начало правительственно-бюрократическому. Сторонники этой теории считали, что в самоуправлении проявляется самостоятельность граждан, не являющихся государственными служащими и поэтому совершенно свободных в своих действиях [1, с. 153].
Разработчики реформ в 60-х гг. находились под сильным влиянием общиннохозяйственной теории и использовали зарубежный опыт для создания самоуправления в городах, в значительной степени прусский, который, по мнению Александра II, был наиболее подходящим для Российской империи. Однако Городовое Положение от 16 июня 1870 г. предоставило российским городам больше прав и простора для самостоятельной деятельности. С учётом новых социальноэкономических факторов законодательство ввело в стране всесословное самоуправление, определило его статус, функции, обязанности, права, механизм выборов, формирования учреждений, источники средств, порядок деятельности на основе законов империи под контролем, в подчинении царской администрации. Однако законами 1890 и 1892 гг. фактически оформилась система двойного контроля над исполнительными органами самоуправления, расширена система опеки и вмешательства государственных органов в дела самоуправлений.
Новое законодательство, составленное с учётом накопленного опыта, базировалось на государственной теории местного самоуправления, в соответствии с которой общественное управление является частью государства и сводится к выполнению выборными органами задач государственного управления. Эта теория исходила из того, что всё управление пуб- личного характера – дело государственное, главный смыл самоуправления не в обособлении от государства, а в службе его интересам и целям.
По мнению основоположников данной теории Н.М. Коркунова, А.Д. Градовско-го, Л. Штейна, Р. Гнейста, «самоуправление не есть общественное самоуправление, а оно есть такое же государственное управление, как и бюрократическое, учреждения самоуправления совокупно с бюрократическими учреждениями суть двоякие органы одного и того же государственного организма, различные формы одной и той же власти» [1, с. 152]. Авторы монографии «Местное самоуправление на Дальнем Востоке России во второй половине XIX – начале ХХ в.» акцентировали внимание на присяге, которую приносили гласные, избранные в городскую думу. По их мнению, её текст наглядно раскрывает характер взаимоотношений местного самоуправления с государственной властью, где среди клятв императору, наследнику престола «верно и нелицемерно служить, и во всем повиноваться, не щадя живота своего до последней капли крови», ничего не говорилось о верности обществу [5, д. 6. л. 4, 10 – 11; 7, с. 101 – 102]. Однако следует отметить, что в сознании большинства жителей России того времени служение государству и обществу существовало неразделимо. Отношения между само- управлениями и государством складывались противоречиво и зачастую конфликтно. Несмотря на начавшийся во второй половине XIX в. процесс формирования гражданского общества, в Российской империи последовательно проводилась политика постепенного ограничения правовых и финансовых возможностей самоуправления. Поскольку, с одной стороны, эта ситуация мешала развитию общественного управления, а с другой – расшатывала позиции самодержавия, рано или поздно она должна была разрешиться: либо предоставлением обществу большей самостоятельности, либо превращением общественных учреждений в государственные институты. Существенным недостатком самоуправления Российской империи следует считать и отсутствие единого принципа его организации, что порождало существование различных форм организации самостоятельной деятельности населения: крестьянское, казачье, городское, земское, а также самоуправление коренных малочисленных народов. Такое разнообразие в практической деятельности приводило к столкновению интересов органов самоуправления и препятствовало консолидации различных социальных групп. Ситуация изменилась только в годы Первой мировой войны, когда общая опасность сплотила российское общество в едином патриотическом порыве.
XXI в. должен стать столетием правового государства и гражданского общества. Для правового государства органы местного самоуправления важны, прежде всего, как властные структуры, находящиеся в непосредственном контакте с населением. Именно на местном уровне происходит наиболее тесное взаимодействие властных институтов и населения. Но становление и развитие местного самоуправления в России сталкивается с многочисленными трудностями. Государство, как и несколько веков назад, стремится к расширению своих полномочий. Поспешная трансформация всех сфер общественного и государственного устройства в связи привела к ещё большему усилению противоречий между обществом и государством. По данным экспертов, в настоящее время наблюдается снижение самостоятельности местных властей в областях образования, здравоохранения, предоставления жилья, поддержки малообеспеченных слоёв населения. Затягиваются экономические преобразования, что приводит к снижению жизненного уровня основной массы населения. Кроме того, многие государственные деятели до сих пор обладают довольно скромными представлениями о природе демократической власти и не всегда осознают роль местного самоуправления как основы народовластия. Население по-прежнему отстранено от участия в решении насущных вопросов, вследствие этого основные принципы местного самоуправления реализуются медленно и неэффективно.
Список литературы Государство и общество: теория и практика местного самоуправления в Российской империи
- Абрамов, В. Ф. Теория местного самоуправления на отечественной почве/В. Ф. Абрамов//Полис. 1998. № 4. С. 152 -154.
- Полное собрание законов Российской Империи (ПСЗ РИ) с 1649 г. Т. XXII. 1784 -1788. -СПб., 1830.
- Преображенский, Д. А. Сельские учреждения и должностные лица/Д. А. Преображенский. -М.: Университетская типогр., Страст. бульв., 1893. -99 с.
- Пушкарев, С. Г. Очерк истории крестьянского самоуправления в России/С. Г. Пушкарев. -Прага, 1924. -43 с.
- Российский государственный исторический архив Дальнего Востока (РГИА ДВ). Ф. 28. Оп. 1.
- Свод законов Российской империи. Т. IX. 1832.
- Сергеев, О. И. Местное самоуправление на Дальнем Востоке России во второй половине XIX -начале ХХ вв. Очерки истории/О. И. Сергеев, С. И. Лазарева, Г. Я. Тригуб. -Владивосток: Дальнаука, 2002. -296 с.