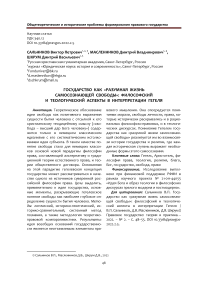Государство как "разумная жизнь самосознающей свободы": философский и теологический аспекты в интерпретации Гегеля
Автор: Сальников Виктор Петрович, Масленников Дмитрий Владимирович, Шкрум Дмитрий Васильевич
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Общетеоретические и исторические проблемы формирования правового государства
Статья в выпуске: 2 (68), 2022 года.
Бесплатный доступ
Теоретическое обоснование идеи свободы как позитивного выражения сущности бытия человека с отсылкой к его христианскому теодицейному смыслу («свобода - высший дар Бога человеку») содержится только в немецком классическом идеализме с его систематическим истолкованием идеи субъекта. В таком качестве понятие свободы стало для немецких классиков основой новой парадигмы философии права, составляющей альтернативу и традиционной теории естественного права, и теории общественного договора. Основанная на этой парадигме гегелевская концепция государства может рассматриваться в качестве одного из источников суверенной российской философии права. Цель: выделить, применительно к идее государства, основные моменты, раскрывающие гегелевское понятие свободы как наиболее глубокое определение сущности бытия человека. Методы: логический, историко-генетический, историко-сравнительный, системный метод познания, а также методология теоретико-правовой компаративистики. Результаты: идея всеобщих оснований государственности является неотъемлемым элементом правового мышления. Она опосредуется понятиями морали, свободы личности, права, которые исторически раскрывались и в рациональных философско-правовых, и в теологических дискурсах. Понимание Гегелем государства как «разумной жизни самосознающей свободы» реализуется им во взаимосвязи истории государства и религии, где каждая историческая ступень выражает необходимые формы этого самосознания.
Гегель, аристотель, философия права, теология, религия, благо, бог, государство, свобода, право
Короткий адрес: https://sciup.org/142235766
IDR: 142235766 | УДК: 340.12 | DOI: 10.33184/pravgos-2022.2.5
Текст научной статьи Государство как "разумная жизнь самосознающей свободы": философский и теологический аспекты в интерпретации Гегеля
кретным смыслом, отсылающим к определен‐ ной историко‐философской и историко‐право‐ вой традиции. В этом определении Гегель свя‐ зывает государство, во‐первых, с понятием жизни, во‐вторых, с понятием свободы, в‐ третьих, с самосознанием этой свободы, в‐ четвертых, с объективными формами реализации свободы и ее институционализации.
Прежде всего, в трактовке государства как «разумной жизни свободы» можно видеть оппозицию механистической модели теории общественного договора. Здесь Гегель ближе к античным представлениям о государстве как своего рода живом организме - к представлениям, лишь отчасти возрожденным просветителями XVIII столетия.
Вопрос, однако, заключается в том, как следует понимать сам организм, жизнь, душу. И здесь Гегель снова апеллирует к античной диалектике, утверждая, что «существенная цель философии духа может заключать‐ ся только в том, чтобы снова ввести понятие в познание духа и тем самым раскрыть смысл ... аристотелевских книг о душе» [2, с. 8]. Аристотель, как известно, понимал душу не спиритуалистически, то есть не как существующую самостоятельно некую суб‐ станцию, а как внутреннюю форму тела. Однако эта форма является активным, а не пассивным, началом тела. Она - ее своего рода «порождающая модель» (выражение А.Ф. Лосева), ее цель, которой служат все члены тела и которой они определяются. Налично положенная цель, осуществленная целесообразность - таково наиболее точное определение души. И с этим качеством связана ее трактовка как активного, определяющего и к жизни вызывающего начала: «деятельность целесообразна, а ее началом является цель - "благо" (целевая причина)» [3, с. 30].
Существенно, что в таком свете определение цели совпадает с определением блага, составляющим сущность высшего нравст‐ венного начала и в этом качестве также со‐ ставляющим высшее начало государства. Анализируя аристотелевскую трактовку цели государства как счастья его граждан, Гегель подчеркивал, что она не сводится только к утилитаризму. Ведь государство, указывал он, прежде всего, является выражением высшей нравственной идеи. Иначе говоря, идеи абсолютного блага. Последняя вместе с тем сама является воплощением высшей це‐ лесообразности мироздания, активной ду- шой мира, содержание которой составляет высшая нравственная идея.
О единстве природы человека и государ‐ ства. Мысль о том, что душа как определение жизни человека и душа как определение жиз‐ ни государства имеют единую природу, скрепляющим стержнем которой является нрав‐ ственная идея, а именно идея справедливости, выражал еще Платон в своем диалоге «Государство». Аристотель лишь придал ей дискурсивную развернутую форму. При этом он показал, что особенные начала души, идет ли речь о человеке или о государстве (по Аристотелю, это форма, материя, источник движения, цель), имеют своим первоначалом всеобщее (по Аристотелю, божественный разум - перводвигатель). «В развитие философии Платона Аристотель демонстрирует мощь аналитической способности разума, рассматривая каждую сущность как единство начал материи, формы, источника движения и цели. Каждое из этих начал имеет свое начало. Чтобы не уйти в регресс бесконечности начал, Аристотель полагает для них первоначала: первоматерию, форму форм, первоисточник движения и конечную цель всего су‐ щего. Но этих первоначал не четыре. В своих основаниях они совпадают и составляют од‐ но-единственное первоначало, которое он трактует как Божественное мышление, высший ум» [4, с. 57].
Последний момент, впрочем, лишь угадывался Аристотелем, как и его великим учителем (диалог «Филеб»). Понимание того, что абсолютная идея Платона и Аристотеля имеет нравственную природу, входит в мир лишь с религиями - сначала с христианской, а затем и с исламской теологией [4, с. 63].
Таким образом, рассматривая государство как организм, как жизнь, Гегель видел в едином всеобщем синтетическом понятии синтез особенных понятий: блага, активности, субъектности, целостности и самоопределения своих отдельных моментов (то, что в философии называется целокупностью, или тотальностью). Все эти понятия синтезируются в единую идею души, в которой Гегель вслед за Аристотелем выделял три формы:
растительную, животную и разумную. Имен‐ но с последней формой он соотносил госу‐ дарство, поскольку «еще Аристотель выска‐ зал мысль, что только человеческая органи‐ зация является образом духовного…» [5, c. 147]. Государство для Гегеля, таким обра‐ зом, – это именно высшая, то есть разумная, форма души, жизни. Понятие жизни всегда подразумевает вопрос: жизни чего? В данном случае, как мы помним, Гегель определял го‐ сударство как разумную жизнь свободы.
Понятие свободы играло системообра‐ зующую роль в философии Гегеля в целом и в его философии права в особенности. «Субстан‐ ция духа есть свобода», – писал он [2, c. 25].
Вся философия Гегеля может быть опре‐ делена, прежде всего, как философия духа: «Абсолютное есть дух; таково высшее опре‐ деление абсолютного. – Найти это определе‐ ние и понять его смысл и содержание – в этом заключалась, можно сказать, абсолютная тенденция всего образования и философии – к этому пункту устремлялась вся религия и наука; только из этого устремления может быть понята всемирная история» [2, c. 29]. Понятие духа (Geist) в философском смысле – это, собственно, гегелевский неологизм. До Гегеля оно как научная категория практиче‐ ски не использовалось, и было развито им как форма объективации фихтевского трансцен‐ дентального понятия «Я», соединяющего в себе начала субъективного и объективного, а потом преодолевающего их ограниченность в едином синтезе абсолютного. Х.‐Г. Гадамер трактует данное понятие как результат адап‐ тации традиции философского мышления от Античности до немецкой классики: «Его поня‐ тие духа, которое преодолевает субъектив‐ ные формы самосознания, восходит, таким образом, к метафизике Логоса и Ума (Logos – Nous – Metaphysik) платоновско‐аристотелев‐ ской традиции, которая положена еще до всякой проблематики самосознания. Гегель тем самым разрешает для себя задачу нового обоснования греческого Логоса на почве со‐ временного, самого себя знающего духа» [6, s. 67–68].
В этом качестве понятие «дух», а значит, и понятие «свобода» как понятие «субстанции» духа, без сомнения, имеет системообразую‐ щее значение для всех его форм, описанных Гегелем, в том числе и в «Философии права» («объективный дух»). Но в гегелевской «Фило‐ софии права» оно приобретает еще и особен‐ ное значение в силу того, что в немецкой клас‐ сике именно со становлением спекулятивного понятия свободы утверждается совершенно новая философско‐правовая парадигма.
Начиная с Античности на протяжении ве‐ ков доминирующей была естественно‐право‐ вая парадигма правового мышления [7, c. 116], берущая свое начало от платоновско‐арис‐ тотелевской идеи абсолютного блага как высшего источника эманации идеи справед‐ ливости, которой обусловлен весь комплекс моральных и правовых норм. Свое закончен‐ ное теоретическое оформление естественно‐ правовая парадигма получила в учении Фомы Аквинского, который определял естествен‐ ное право в качестве всеобщей субстанции всего позитивного законодательства, фоку‐ сирующегося в «естественном законе». Есте‐ ственное право трактовалось «Ангельским доктором» как открытая разуму по милости Бога сфера «вечного права», которая, в свою очередь, совпадает с природой самого Бога. Государство и его законы виделись гармо‐ ничной частью установленного Богом миро‐ порядка, столь же священными, как и сам со‐ творенный Богом и пронизанный Его энер‐ гиями мир [4, с. 249–250].
Государство и Новое время. В эпоху Ново‐ го времени как реакция секуляризованного мышления утверждается парадигма общест‐ венного договора, бывшая продуктом распро‐ странения на общественные явления пред‐ ставлений о природе механистического ато‐ мизма, ставшего господствующим мировоз‐ зрением. Единые законы природы, которые стремился навязать ей рассудок в виде внеш‐ них схем, не могли заменить той внутренней гармонии, которую усматривали в природе античные мыслители и средневековые мисти‐ ки. Равным образом и государство в трактовке Гоббса, Локка или Спинозы теряло черты ра‐ зумного живого организма, соразмерного душе гражданина, каким рисовал его Платон, или образ священного установления, как учили Августин или Фома. Государство, его институты, его законы и само естественное право теперь понимались как результат деятельности механистического ratio, как результат деятельности, опосредствованной механизмом общественного договора. А потому и сами они трактовались как мертвые механизмы, подчиненные внешней цели [8, с. 65-71]. Но ведь точно такими же механизмами виделись при‐ рода, человек и его мышление.
Немецкая классическая философия су‐ мела преодолеть мертвый механицизм но‐ воевропейского рассудочного мышления в праве и столь же односторонний объекти‐ визм и субстанционализм парадигмы естест‐ венного права. Она возвращается к античному пониманию мира как единого гармо‐ ничного целого и к пониманию государства как воплощения высшей нравственной идеи, абсолютного блага.
Но само это абсолютное благо теперь уже понимается немецкими классиками через призму идеи субъективности, идеи самосознания, возможность чего дает духовный опыт мировых религий, которого не имела Античность. В особенности в трудах Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Дамаскина идея гармонии мира как единства абсолютного добра утвер‐ ждается в свете учения о свободе как выс‐ шем даре Бога человеку [4, с. 72-74]. Потребовалась долгая, многовековая работа мышления, прежде чем человек сумел перевести эту богословскую мысль в про‐ странство философского, а затем и философско-правового дискурса.
Без разработки учения о субъекте и субъективности в трансцендентальной фи‐ лософии Канта было бы невозможно и спе‐ кулятивное понятие свободы, объединившее в себе начала субъективного и объективно‐ го, абсолютного блага и свободного произвола личности. Однако в философии самого Канта это единство могло быть выражено только в отрицательной форме. Поэтому по требовалось его развитие, как и развитие самой формы мышления. Последнее стало делом Фихте и Гегеля.
В итоге понятие свободы выступает у Фихте и у Гегеля как развитое по форме и конкретное по содержанию понятие, как своего рода проекция всеобщего в единич‐ ное; как alter ego Абсолюта; как «абсолютный минимум», сливающийся с «абсолютным максимумом» (выражение Николая Кузан-ского). Свобода у них соотносится с собой, полагает себя, а потому она субъектна и активна, она форма и душа в аристотелевском смысле этого слова. Поскольку она понимается этими философами как душа, обладающая самосознанием, она разумная душа, буквально, по Гегелю, - разумная жизнь.
Но для Гегеля в большей степени, чем для Фихте, актуализируется еще одна значимая традиция, которую автор «Науки логики» связывает, прежде всего, с учением Монтескье, но которую в значительной мере формирует именно он сам. Это идея историзма. «Суд истории» составляет, по Гегелю, кульминационный пункт развития государст‐ ва, то, что определяет истину государства [1, с. 369]. С другой стороны, история есть не что иное, как процесс развития государств. Рассматривая исторический процесс разви‐ тия общества, Гегель подчеркивал, что история является достоянием лишь тех народов, которые создали государство [9, с. 58-60]. Однако мировая история, прежде всего, одухотворенный процесс. История государств, по Гегелю, субъектна, органична и целесообразна.
Формы самосознания свободы. Самосоз‐ нание свободы фиксируется в формах как теоретической, так и практической деятельности человека. В первом случае мы имеем дело с осознанием внутреннего единства субъекта и объекта познания, с признанием того, что во внешнем мире, в природе есть разум и этот разум имеет ту же материю, что и сознание человека. Во втором случае, в практическом отношении, самосознание свободы в деятельности человека фиксируется в его уверенности в том, что в своей деятельности во внешнем мире он не встретит какого‐либо окончатель‐ ного сопротивления и сможет реализовать эту свою свободу [2, с. 310-311].
Внешние формы реализации свободы че‐ ловека в сферу объективности Гегель опре‐ деляет, во-первых, как материальный и духовный труд и удовлетворение всех потреб‐ ностей человека; во-вторых, как «действительность содержащегося в этом всеобщего свободы, защиты собственности посредством правосудия» [1, с. 233], в-третьих, как систему защиты возникающих здесь особенных инте‐ ресов (полиция и корпорации) [1, с. 233].
Единство трех моментов составляет гра‐ жданское общество, это, в трактовке Гегеля, «внешнее государство» [2, с. 342]. Находя в институте суверенитета, в конституции и в воле своего главы (монарха) разум и единство, это «внешнее государство» обретает «душу», становится не просто жизнью «самосознающей свободы», а ее «разумной» жизнью, и «сфера гражданского общества переходит в государство» [2, с. 278].
Таким образом, самосознание человека и общества является существенным опреде‐ лением и функцией государства. Суть этого самосознания, по Гегелю, состоит в понимании им своего собственного содержания как духовного содержания, то есть как содержательной свободы, поскольку «сущность духа есть свобода» [2, с. 25]. Взятая в отрицательном определении, эта свобода есть независимость от природы, включая и собственную природность. Поэтому формы самосознания духовного содержания для Ге‐ геля составляют существенное определение государства, и наоборот.
Необходимой и одной из высших таких форм, по Гегелю, является религиозная форма. В ней человек и общество получают знание об абсолютном в форме представления, которое воплощается как в теоретическом отношении в виде вероучения, так и в практическом отношении - непосредственно в религиозном культе, но также и во всей практике отношения человека к природе, к самому себе, к обществу в целом, а также в практике государственного строительства.
Поэтому в гегелевской «Философии права» мы найдем обширный материал богослов‐ ского характера, а в «Философии религии» -глубокое содержание теоретико‐правового и историко-правового характера.
Внешнее движение истории состоит в уг‐ лублении самосознания свободы, а тем самым и в развитии самого принципа государ‐ ственности. На первом этапе всемирной истории - в Древнем Китае и Древней Индии -философ находит духовную сущность обще‐ ства и государства лишь как внутреннюю суб‐ станцию свободы, лишенную какой-либо субъективности. Таков и объект религиозного поклонения - абстрактная субстанция Неба (Тянь) или безличного Брахмана. Принцип субъектности впервые проявляется в персид‐ ской религии зороастризма, сосредоточенной на эсхатологизме борьбы Добра и Зла.
Следующей ступенью, на которой Гегель фиксирует отношение к всемирной истории как к цели государства и одновременно как к форме, в которой религиозное отношение находит для себя объект религиозного по‐ клонения, является римская религия. Понятие цели составляет, по Гегелю, основное определение этой ступени. Этой целью является само государство, но эта цель не абсолютна, поскольку речь еще не идет о всемирной ис‐ тории, о цели всего человечества, а лишь о цели отдельного, в терминологии Гегеля -особенного, народа, а именно римского народа. Культы отдельных богов имеют место постольку, поскольку они направлены на достижение целей, связанных с конечным благом Рима. Благо государства является высшей целью и главным смыслом религиозного от‐ ношения. Реализованная цель составляет как раз ту конечность, которая «остается принадлежащей субъекту, он в ней имеет самого себя, он объективировался в ней, освободился от простоты, но в тоже время сохранил себя в многообразии» [5, с. 70]. Однако опосредствование, развитое лишь до формы необходимости, не может дать полагания всей полноты субъекта в конечном, или, что то же самое, абсолютного снятия конечного и пола-гания абсолютной целостности духа.
В данном контексте это означает возвы‐ шение истории отдельных народов до все‐ мирной истории и возвышение конечной це‐ ли, в которой дух находит для себя форму полагания исторического, до цели абсолют‐ ной: «Третьим моментом является ... конеч‐ ная особенная цель, которая в своей осо‐ бенности входит во всеобщность и расши‐ ряется до всеобщности, но которая, являясь в то же время эмпирически внешней, не есть истинная всеобщность понятия; охватывая мир, народы, [она] расширяет их до все‐ общности, но в тоже время утрачивает оп‐ ределенность, имеет целью холодную, абсо‐ лютную, абстрактную силу и есть нечто в се‐ бе бесцельное» [5, с. 84]. Цель должна быть положена как всемирно‐историческая цель, история – как цель духа, а дух – как цель ис‐ тории. Согласно Гегелю, это осуществляется лишь в «абсолютной», то есть в мировой, ре‐ лигии.
В итоге римская идея государственности, ценностные основания которой восходят к римской религиозности, обрела конкрет‐ ность, когда вызревавшая в недрах этой го‐ сударственности система права получила свое завершение и огранку в духовной идее права. Но сама эта духовная идея права стала возможной лишь в контексте христианской культуры. Таким образом римская государст‐ венность преобразуется в христианскую го‐ сударственность в империи Юстиниана. Это‐ му содержанию Гегель дает также теологиче‐ скую интерпретацию, связывая преображе‐ ние права, государственности и самой все‐ мирной истории со Священной историей, составляющей стержень мировой религии [4, с. 238–247].
Заключение. Опыт немецкой классиче‐ ской философии по преодолению механи‐ стических концепций государства, являю‐ щихся господствующими и в наше время, безусловно, актуален. Результатом этого опыта стало возрождение античного пони‐ мания мира как единого целого, в основе гармонии которого лежит идея высшего бла‐ га, абсолютного добра. Эта мысль органична и христианским, и исламским народам Рос‐ сии, теологическая культура которых в рав‐ ной мере восходит к философскому мышле‐ нию Платона и Аристотеля, к «ценностному измерению институтов гражданского обще‐ ства, государства, права», которое, в свою очередь, «предполагает отношение к идее абсолютного добра как к объективному ори‐ ентиру практического действия» [10, c. 191– 192]. Способ мышления, развитый немецкой классикой, позволил в XIX в. (и с учетом оп‐ ределенной теоретической работы может позволить в XXI в.) трансформировать это миросозерцание в рациональные формы со‐ временной философии права, суверенной философии права России, основанной на идее «абсолютного блага, необходимым по‐ люсом которого является свобода личности» [11, c. 176].
Список литературы Государство как "разумная жизнь самосознающей свободы": философский и теологический аспекты в интерпретации Гегеля
- Гегель Г.В.Ф. Философия права / Г.В.Ф. Гегель. -Москва: Мысль, 1990. - 524 с.
- Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук: в 3 т. Т. 3. Философия духа / Г.В.Ф. Гегель. - Москва: Мысль, 1977. - 471 с.
- Лебедев С. П. Единое и благо в теологии Платона / С. П. Лебедев // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. - 2020. - Т. 21, № 1. - С. 29-37.
- Захарцев С.И. Логос права: Парменид - Гегель - Достоевский. К вопросу о спекулятивно-логических основаниях метафизики права: монография / С.И. Захарцев, Д.В. Масленников, В.П. Сальников. - Москва: Юрлитинформ, 2019. - 376 с. DOI 10.17513/np.467.
- Гегель Г.В.Ф. Философия религии: в 2 т. / Г.В.Ф. Гегель. - Москва: Мысль, 1977. - Т. 2. - 573 с.
- Gadamer H.-G. Die Idee der Hegelschen Logik / H. G. Gadamer // Gadamer H.-G. Gesammelte Werke. -Tübingen, 1971. - Bd. 3. - S. 54-72.
- Фролова Е.А. Рациональные основания права: классика и современность / Е.А. Фролова. - Москва: Проспект, 2020. - 576 с.
- Berges A. Der freie Wille als Rechtsprinzip. Untersuchungen zur Grundlegung des Rechts bei Hobbes und Hegel / A. Berges. - Hamburg: Felix Meiner Verlag, 2012. -396 s.
- Гегель Г.В.Ф. Философия истории / Г.В.Ф. Гегель. - Москва ; Ленинград: Соцэкгиз, 1935. - 470 с.
- Богатырёв Д. К. Ценности, мышление, культура в пространстве духовной жизни / Д.К. Богатырёв, В. П. Сальников // Мир политики и социологии. - 2019. -№ 9. - С. 186-194.
- Бастрыкин А.И. Взаимосвязь идеи абсолютного добра и свободы человека в философии права Ф.М. Достоевского / А.И. Бастрыкин, Р.Ф. Исмагилов, В.П. Сальников // Юридическая наука: история и современность. - 2021. - № 6. - С. 176-181.