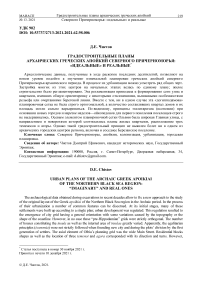Градостроительные планы архаических греческих апойкий Северного Причерноморья: "идеальные" и реальные
Автор: Чистов Д.Е.
Журнал: Материалы по археологии и истории античного и средневекового Причерноморья @maiask
Рубрика: Археология
Статья в выпуске: 13, 2021 года.
Бесплатный доступ
Археологические данные, полученные в ходе раскопок последних десятилетий, позволяют на новом уровне подойти к изучению изначальной планировки греческих апойкий северного Причерноморья архаического периода. В процессе их урбанизации можно усмотреть ряд общих черт. Застройка многих из этих центров на начальных этапах велась по единому плану; жилое строительство было регламентировано. Эта регламентация приводила к формированию сети улиц и кварталов, имевших общую ориентировку с некоторыми отклонениями, вызванными особенностями рельефа или очертаниями береговой линии. Вместе с тем, ни в одном случае эта «догипподамова» планировочная сетка не была строго ортогональной, а количество составлявших квартал домов и их площадь могли сильно варьироваться. По-видимому, принципы эгалитаризма (исономии) при основании новых городов и нарезке наделов-ойкопедонов для первого поколения поселенцев строго не выдерживались. Осевым элементом планировочной сетки Ольвии была широкая Главная улица, с направлением и поворотами которой соотносились планы жилых кварталов, расположение трех теменосов и агоры. Однако такой градостроительный принцип не выявлен более ни в одном из архаических городских центров региона, включая и соседнее Березанское поселение.
Северное причерноморье, апойкии, колонизация, урбанизация, городская планировка
Короткий адрес: https://sciup.org/14123567
IDR: 14123567 | УДК: 902
Текст научной статьи Градостроительные планы архаических греческих апойкий Северного Причерноморья: "идеальные" и реальные
До самого недавнего времени не появлялось специальных работ, посвященных изучению урбанистической структуры античных городов Северного Причерноморья архаического периода. Очевидными причинами тому служат слабая изученность ранних слоев на большей части памятников, а также неизбежное видоизменение планировочных сеток урбанизированных центров с течением времени. «Эталонным» примером архаического города на северном побережье Понта долгое время оставался Борисфен, поселение на о. Березань. Невозможность сопоставления данных, полученных на этом памятнике, с менее репрезентативными сведениями о застройке иных центров Северного Причерноморья не позволяла выявить локальные градостроительные особенности, а также создавала угрозу ошибочного переноса специфических черт планировки и домостроительства Борисфена на другие синхронные ему памятники региона. Не будет большим преувеличением сказать, что накопление новой археологической информации за последние десятилетия имело в этом отношении по-настоящему прорывной характер. Текущее состояние источников позволяет делать куда более обоснованные выводы как о планировке Березани и архаической Ольвии, так и о градостроительной структуре ряда городов Боспора того же периода.
Такие исследования необходимы для определения истоков градостроительной традиции, в русле которой велось развитие ионийских апойкий со времени их основания, и, в перспективе — изучения форм социальной и политической организации, отражением которых эти урбанистические структуры в какой-то мере являлись. Колониальные центры в большинстве случаев развивались не стихийно, а в соответствии с определенными планами их основателей. В них не мог не отразиться ментальный образец гармонично организованного пространства и сообщества, образцового или «идеального» полиса, хотя практическое воплощение по прошествии столетий могло иметь с ним не так уж много общего (Hansen 2005: 9—12; Tsetskhladze 2006: xlii—xliii; Поваляев 2010).
Время возникновения городской застройки в античных городах Северного Причерноморья по имеющимся данным можно поместить в хронологические рамки от второй четверти VI до начала V вв. до н.э. Наиболее раннее каменно-сырцовое сооружение в регионе к настоящему времени зафиксировано на акрополе Пантикапея. Находки из слоя пожара в здании Д-3 датируют его гибель не позднее середины VI в. до н.э., а сама постройка, таким образом, существовала еще в первой половине столетия (Толстиков и др. 2017: 14—15, 55—56, 59, 247, табл. 11). Городская застройка Фанагории и Березанского поселения (возможно также Ольвии) возникает несколько позже — в начале третьей четверти VI в. до н.э. Очень вероятно, что эти события почти не разнесены по времени, поскольку могли быть связаны с одной колонизационной волной, вызванной установлением протектората Ахеменидов над Ионией после разгрома Лидийского царства в 546 г. до н.э. (Hrd., I, 153—169). Для прочих упомянутых ниже центров наиболее приемлемые даты активной фазы урбанизации приходятся на последнюю четверть VI в. до н.э. — рубеж VI—V вв. до н.э., т.е. несколькими десятилетиями позже.
МАИАСП № 13. 2021
Градостроительные планы архаических греческих апойкий Северного Причерноморья: «идеальные» и реальные
Размеры античных городов Северного Причерноморья, и, соответственно, численность населения на самом раннем этапе их урбанизации, поддаются оценке с очень разной степенью достоверности, что затрудняет их взаимное сопоставление. Площадь, выделенная под застройку античных центров Нижнего Побужья, была изначально довольно значительной: для Березанского поселения этот показатель составляет не менее 10—11 га (рис. 1—4), но, возможно, был и в полтора раза большим (Чистов 2021a: 94—96, рис. 3). Есть основания полагать, что в Ольвии сеть архаических кварталов охватила всю или почти всю территорию Верхнего плато (рис. 5—6), т.е. порядка 28 га (Крыжицкий 1985: 61—63; Буйских 2021), однако и террасная часть города начинала застраиваться городскими домами не позже конца VI в. до н.э. (Крыжицкий, Назарчук 1994). Вместе с тем, мы не знаем, насколько плотно заселялась вся эта территория к началу V в. до н.э.; обширные участки, суммарной площадью порядка 3—4 га, были зарезервированы под общественные пространства (теменосы и агору) и ранний некрополь уже на самом раннем этапе сложения городской структуры полиса (Буйских 2021: 694).
Имеющиеся данные об античных центрах восточного Крыма и Таманского полуострова того же времени дают заметно более скромные цифры. По-видимому, до первых десятилетий V в. до н.э. размеры большинства урбанизированных памятников в этом регионе, за исключением Пантикапея, варьировались в интервале от 1—2 до 5—6 га.
Укрепленный периметр акрополя Пантикапея (рис. 7) к первой четверти V в. до н.э. закрывал порядка 3 га на Верхнем и Западном плато г. Митридат (Толстиков 2015: 262, рис. 1: 3 ), однако весь город в позднеархаическое время, конечно, имел существенно большие размеры. Застройка северного склона Западного плато не являлась его окраиной, о чем свидетельствует открытие части мощеной площади общественного назначения у его подножия (Марченко 1979: 165; 1984: 11—18). Вероятнее всего, городская территория Пантикапея уже в это время исчислялась десятками гектаров.
Городская застройка Фанагории к началу V в. до н.э., по мнению ее исследователей, была ограничена укрепленным периметром Верхнего плато городища (рис. 8—9) и распространялась не более чем на 2 га (Кузнецов 2017: 52—53, рис. 37; 2019: 303—304). Площадь же Фанагории в период ее наивысшего расцвета достигала 60—65 га (Кузнецов 2019: 398—399). По-видимому, на первые десятилетия V в. до н.э. приходится этап взрывного роста численности населения и размеров этого города, возможно, связанный с массовой миграцией жителей ионийских городов после разгрома антиперсидского восстания 494 г. до н.э. Об экстраординарных обстоятельствах свидетельствует появление кварталов глиноплетевых построек на месте раннего некрополя на южной окраине Фанагории (Долгоруков, Колесников 1993: 130; Завойкин и др. 2016: 199—200).
Возможно, все же какие-то участки ранней застройки на нижнем плато еще не выявлены. В противном случае пришлось бы признать, что площадь Фанагории до конца VI в. до н.э. выглядела очень скромно даже на фоне синхронных ей памятников Северного Понта. Размеры таких урбанизированных центров европейского Боспора, как Мирмекий (рис. 10— 11) (Бутягин, Чистов 2015: 30), Тиритака (рис. 12—13) (Зинько 2015: 104) и Нимфей (рис. 14) (Чистов 2017: 156) и в конце VI — начале V вв. до н.э. были вполне сопоставимыми — в пределах 4—6 га. Значительно уступал им архаический Порфмий (менее 1 га: Вахтина 2012: 25), что, в первую очередь, обусловлено небольшим периметром занимаемого им возвышенного плато, но также может указывать на несколько иной характер этого
МАИАСП № 13. 2021
населенного пункта. Площадь других городских памятников региона в VI — начале V вв. до н.э. не поддается достоверной оценке, или также укладывается в рамки 1,5—5 га.1
При сопоставлении с материковой и Восточной Грецией VI в. до н.э. урбанизированные поселения таких размеров можно считать сравнительно небольшими или очень маленькими: по оценке Ф. Ланг, лишь 20% городских центров этого времени имели площадь менее 10 га (так, например, площадь Старой Смирны внутри периметра укреплений составляла всего 6 га), площадь же большей части городов, по-видимому, варьировалась в пределах 20—40 га (Lang 1996: 56—57).
В процессе урбанизации архаических городов Северного и Северо-Западного Причерноморья можно усмотреть много общих черт. Застройка многих из этих центров на начальных этапах велась по единому плану; жилое строительство было регламентировано. Эта регламентация приводила к формированию сети улиц и кварталов, имевших общую ориентировку с некоторыми отклонениями, вызванными особенностями рельефа или очертаниями береговой линии. Вместе с тем, ни в одном случае эта «догипподамова» планировочная сетка не была строго ортогональной, а количество составлявших квартал домов и их площадь могли сильно варьироваться.
Принципы градостроительной организации, близкие линейному плану «per strigas» колоний Великой Греции VIII—VII вв. до н.э. к настоящему времени предполагаются лишь для архаической Ольвии (рис. 5) (Буйских 2021). В основе этой планировочной концепции лежит расположение одной или нескольких главных продольных улиц — платей, пересекаемых второстепенными улицами — стенопами. Применение такой сетки приводило к возникновению прямоугольных кварталов, протянувшихся перпендикулярно главной улице, и поделенных, в свою очередь, на участки индивидуальных домовладений (Hoepfner, Schwandner 1994: 1—9, 299—301).
Ширина кварталов «идеальной» позднеархаической квартальной сети Ольвии рассчитана А.В. Буйских исходя из расстояния между поперечными улицами на раскопе Р-25 в южной части Верхнего плато и определена в 12,25 м (35 египетских или длинных самосских футов). Столь небольшие размеры квартала в поперечнике автор объясняет тем, что они предполагали размещение домовладений лишь в один, а не в два ряда (Буйских 2021: 692). Здесь следует заметить, что форма известных кварталов Ольвии эллинистического времени (рис. 6) не дает прямых оснований предполагать, что они могли эволюционировать из «узких» кварталов с этим модулем ширины, хотя традиция размещать дома в один ряд перпендикулярно Главной улице в некоторых из примыкающих к ней кварталов, действительно, прослеживается.
В качестве примера такого развития А.В. Буйских приводит эллинистический Центральный квартал (рис. 6: 7 ) к западу от агоры, который мог сформироваться путем объединения трех ранних, при этом «рудиментом» одной из поперечных улиц начальной планировки мог быть тупиковый («Восточный»2) переулок. В эллинистическое время на запад от Главной улицы в районе теменоса и агоры отходили три основные магистрали: Северная, Средняя и Южная, причем интервалы между ними были вполне сопоставимы — 46 и 52 м соответственно (Леви 1985: 117). Те же интервалы по восточной стороне Центрального квартала между Средней улицей и переулком составляют около 30 м, а между
МАИАСП № 13. 2021
Градостроительные планы архаических греческих апойкий Северного Причерноморья: «идеальные» и реальные переулком и Южной улицей — около 23,5 м.3 Таким образом, даже в последнем случае предполагаемая ширина первоначального квартала оказывается вдвое большей предложенного А.В. Буйских модуля, хотя в эллинистическое время эта часть квартала, действительно, была застроена крупными домовладениями (Е-2, Е-4), расположенными в один ряд (Крыжицкий, Лейпунская 2014: 63, рис. 1). Близкий модуль ширины выявлен и для Северо-восточного квартала эллинистического времени (раскоп АГД; рис. 6: 3), ограниченного отходящими к востоку от Центральной ΙΙ и ΙΙΙ поперечными улицами — его ширина с севера на юг составляла 20—22 м (Леви 1985: 35). В этом случае квартал также состоял из одного ряда домохозяйств, выходивших на улицы узкими сторонами (Крыжицкий 1985: рис. 56).
Хотя существование вытянутых кварталов — инсул в архаической Ольвии пока не может считаться доказанным, следует полностью согласиться с тем, что с самого раннего времени осевым элементом городского плана была Главная улица, пересекавшая все Верхнее плато с севера на юг. С ее направлением и поворотами соотносились планы жилых кварталов, расположение трех теменосов и агоры — этим «идеальный план» Ольвии, действительно в наибольшей степени близок колониальной градостроительной традиции Великой Греции (ср. Буйских 2021: 692—694). Главная улица Ольвии, имевшая на разных участках ширину от 5 до 11 метров4, являлась самой широкой (и, по-видимому, самой протяженной) городской магистралью в Северном Причерноморье.
Лучший пример урбанистической планировки архаического периода для всего региона получен в результате раскопок поселения на о. Березань (рис. 2—3). Эта сетка, сформировавшаяся в третьей четверти VI в. до н.э., имеет признаки организованного, единовременного планирования с унификацией ширины улиц, и ориентацией большей их части по сторонам света (Solovyov 1999: 78—79, fig. 58; Chistov, Krutilov 2014; Чистов 2021a). Тем не менее, застройка Борисфена никогда не была строго ортогональной. В этом отношении планировка Березанского поселения имеет больше общего с синхронным ему планом Старой Смирны архаического периода (Akurgal 1983: 51—56, Abb. 30—31; Lang 1996: 235—241, Abb. 106), нежели с линейной сеткой «per strigas» колоний Великой Греции VIII—VI вв. до н.э. Городские кварталы Борисфена существенно различались размерами, формой и количеством домов, также как были различны по площади и внутренней планировке участки сблокированных в эти кварталы домохозяйств. Тем не менее, планировочную структуру Березанского поселения можно с полным правом относить к числу архаических центров с упорядоченным, рядным планом («Reihensiedlung»: Lang 1996: 60—62). Архаический Борисфен состоял из кварталов, многие из которых (если не все) имели искаженные прямоугольные или трапециевидные очертания. Их внутренняя площадь представляет собой не конгломерат построек, как в упомянутой выше Старой Смирне, а правильно организованное пространство, в котором домохозяйства расположены в две линии, разделенные т.н. «длинной стеной», а соседние дома имеют общие стены и выходы на одну и ту же улицу (рис. 4). Такие внутренние границы раскрыты при раскопках кварталов «A» и «B» в северо-западной части острова, хотя в квартале «А» эта граница образовывала изломы и не делила квартал на две совершенно равные части. Они различимы и в планах березанских кварталов «G», «Ι» и южной части квартала «Η». Территория наиболее хорошо
МАИАСП № 13. 2021
изученных кварталов A» и «B» составляла 1900—2400 кв. м, каждый из них состоял из 8—10 домовладений. Существенно меньшую площадь (около 1000—1050 кв. м) имел квартал «H», расположенный в северо-восточной части поселения, однако его размеры и план нельзя считать стандартными. Этот квартал получил форму прямоугольной трапеции, будучи ограничен двумя меридиональными улицами, с севера сливающимися в одну под острым углом. В конце VI — первой трети V в. до н.э. вся или почти вся его территория была отведена для сооружений общественного назначения (Chistov 2021).
В целом, городские блоки Березани своим внутренним устройством и не вполне регулярным планом напоминали кварталы Ольвии позднеклассического и эллинистического периодов, что может быть аргументом в пользу того, что и более ранние ольвийские кварталы не так уж сильно от них отличались. Пока на Березани исследован лишь один блок («А»), имеющий вытянутые пропорции наподобие «инсул» в городах Великой Греции c планом «per strigas» (рис. 3). Однако и в этом случае квартал состоял из двух рядов домов, будучи от 21,5 до 24 м в поперечнике5. Длина квартала «А» с севера на юг составляла от 68 до 80 м, что может быть сопоставимой величиной с гипотетической длиной архаических кварталов в южной части Верхнего плато Ольвии в модели А.В. Буйских (2021: рис. 6).
Несмотря на сравнительно высокую степень изученности городской застройки Березани и локализацию ряда объектов его общественного центра (Chistov 2015; 2021; Bujskikh, Chistov 2018; Чистов 2021b) концепция «идеального плана» этой апойкии во многих деталях остается неясной. В соотношении ширины продольных и поперечных улиц архаического Борисфена пока не прослеживается четкой иерархии. Улица, которая могла бы выполнять роль планировочной оси всего поселения, не выявлена, хотя все известные общественные постройки вписаны в кварталы, с двух сторон примыкающие к широтно-ориентированной улице П-4. Этим план Березанского поселения разительно отличается от концепции развития городской среды соседней Ольвии, сформировавшейся или приблизительно одновременно, или несколькими десятками лет позднее.
Сеть улиц Борисфена, по-видимому, мыслилась в целом ориентированной по сторонам света, а отклонения были обусловлены формой полуострова и расположением гавани, тогда как в Ольвии блоки кварталов разворачивались в соответствии с изломами Главной улицы, пересекавшей весь город с севера на юг. Сама же эта улица, возможно, возникла еще на начальном этапе освоения территории будущего города, предшествуя квартальной планировке. Кроме того, размеры верхнего плато Ольвии в границах балок предоставляли по меньшей мере вдвое больше территории под застройку в сравнении с древним березанским мысом, что давало поселенцам возможность резервировать весьма обширные территории под развитие общественных пространств и зданий.
По мнению А.В. Буйских (Буйских 2021: 694), ольвийский план является развитием «не во всем удачного» градостроительного опыта, примененного ранее в Борисфене. На основе имеющихся данных трудно судить о том, насколько этот «эксперимент» был неудачным, и что в большей мере повлияло на возникновение характерного плана с «осевой» улицей (особенности рельефа и формы плато, личный опыт и знания предводителей колонистов и т.п.). Так или иначе, план Ольвии стал в большей степени реализацией практики, уже к тому времени более столетия существовавшей в греческом мире, нежели результатом локального развития градостроительных концепций.
Формирование урбанистических структур на Березани и «Верхнем городе» Фанагории, по-видимому, происходило практически одновременно, поэтому сопоставление
МАИАСП № 13. 2021
Градостроительные планы архаических греческих апойкий Северного Причерноморья: «идеальные» и реальные отличительных черт городской застройки двух этих центров особенно важно. С 540-х гг. до н.э. историческое ядро Фанагории застраивалось по единой схеме, хотя его планировка не была строго ортогональной (Кузнецов 2009: 194—195; 2018а: 137). Через весь исследованный участок архаической застройки «Верхнего города» с северо-востока на юго-запад проходит «Центральная» улица, прослеженная на 45—50 м. Судя по опубликованным планам (рис. 9) (Кузнецов 2018a: 123, рис. 4; 2018b: 134, рис. 1), направление этой улицы, как и большей части построек, исследованных к северу и югу от нее, не было строго диагональным относительно меридиональной оси. Улица отклоняется от линии запад-восток к северу приблизительно на 12°. Вероятно, строителями города планировка предполагалась в целом по сторонам света с учетом очертаний небольшого плато. Ширина улицы могла достигать 4—4,5 м.6
Не приходится сомневаться в том, что «Центральная» улица была основной или одной из важных магистралей ранней апойкии, однако наличие иерархии между главной и второстепенной улицами на этом памятнике требует дополнительных подтверждений. В.Д. Кузнецов фактически ставит знак равенства между отдельными исследованными архаическими постройками «Верхнего города» и жилыми домами (домохозяйствами), говоря об их малых размерах в 40—65 кв. м (Кузнецов 2009: 193; 2010: 450—451) и возможном количестве обитателей в 1—2 человека, а также определяя все узкие незастроенные пространства между ними как переулки, отходящие от «Центральной» улицы (Кузнецов 2018b: 137, прим. 3).
Нанесенные на план раскопа «Верхний город» архаические сооружения, действительно, не образуют картины единого уличного фронта со сплошными стенами, ограничивающими территорию домовладений. Некоторые из них расположены довольно строго по одной линии вдоль улицы, но другие в разной степени смещены вглубь застройки. Однако отсутствие следов сплошных оград, явным образом выделяющих наделы домовладений, еще не означает того, что такие участки не были размечены7. В условиях дефицита камня ограды между домовладениями могли иметь характер легких изгородей — плетней или даже отсутствовать вовсе, хотя сами наделы были демаркированы вскоре после основания города. В таком случае следовало бы исходить из того, что домовладениями в архаической Фанагории являлись не отдельные пронумерованные строения раскопа «Верхний город», а группы из нескольких построек и участки прилегающей к ним территории8. В рамках такой интерпретации в границы раскопа могли попасть части по меньшей мере двух кварталов, вытянутых с запада на восток вдоль «Центральной» улицы. Размеры их не ясны, однако глубина квартала в поперечнике составляла не менее 30 м при длине около 60 м или более9.
Почти на всех тех античных городских памятниках Боспора, где архаические слои изучены сравнительно хорошо, к настоящему времени также выявлены признаки регулярной
МАИАСП № 13. 2021
планировки с общей ориентацией домов и улиц по сторонам света с различными отклонениями. В некоторых случаях10 планировка могла быть диагональной, т.е. угол отклонения от меридиональной оси достигал 40—45°.
В восточной части Мирмекия (рис. 10) с конца VI в. до н.э. существовал участок жилой застройки с сетью улиц, ориентированной по сторонам света (Бутягин, Чистов 2015). Архаические дома с момента их возведения блокировались в квартал, имели внешние ограды и образовывали общий уличный фронт. Исследованный на раскопе «И» блок (рис. 11), несмотря на неравенство площадей домохозяйств, имел внутреннюю регулярную планировку — «длинная стена» делила его по меридиональной оси на две примерно равные (15—18 м в поперечнике) части. Участки составлявших квартал домов, очевидно, имели выходы на городские улицы к западу и востоку. Такая организация пространства, несомненно, свидетельствует о рядной застройке по единому градостроительному плану. Улицы Мирмекия различались по значению: так, «Западная» улица на раскопе И имела ширину около 3 м, а «Южная» (Чистов 2009: 233—236) была заметно шире — около 4—4,5 м. Последняя могла представлять собой важную магистраль, пересекавшую городок с востока на запад, к «нижнему городу» и гавани.
Вероятно, регулярный план в значительной степени распространялся и на западный район города. Улицы архаического периода в этой части памятника к настоящему времени не раскрыты, за исключением, одного маленького участка на раскопе «Р» (Виноградов 1992: 105) и ее вероятного продолжения на соседнем раскопе «П» (рис. 10, № 5—6 на плане)11. Ее направление (с юго-востока на северо-запад) сильно отличается от ориентировки улиц в западной части Мирмекия. По-видимому, это объясняется тем, что она вела непосредственно к ныне засыпанной бухте в устье реки в северо-западной части городища.
Урбанизированная структура Тиритаки (рис. 12) формируется, согласно современным данным, около 540—530 г. до н.э. (Зинько 2014: 297). К настоящему времени на этом памятнике не раскрыто ни одного отрезка улиц конца VI — первой половины V в. до н.э., что препятствует созданию сколь-нибудь достоверных реконструкций его планировки архаического периода. Вместе с тем, наиболее значительные из исследованных участков ранних сооружений (Гайдукевич 1952: 86—87; Зинько 2014; 2017; Twardecki 2014; 2016) все же позволяют сделать некоторые выводы. С рубежа третьей и последней четвертей VI в. до н.э. город застаивался в соответствии с общим планом: раскрытые дома в основном ориентированы углами по сторонам света. Такая планировочная сетка, очевидно, оптимально вписывалась в форму плато и соответствовала береговой линии. С момента возникновения эта застройка состояла из многокамерных домохозяйств сравнительно большой площади, сблокированных в кварталы и имевших общий уличный фронт. С конца VI в. до н.э. она на площади не менее 5 га была обнесена крепостной стеной (Зинько 2015; 2020).
Лучше всего изученный квартал архаической Тиритаки на раскопе XXVI, по-видимому, состоял из шести многокамерных домовладений с огороженными дворами (рис. 13). Их взаимное расположение показывает, что этот блок не мог иметь правильных прямоугольных очертаний и, по этой причине, не делился «длинной стеной» на две части на всем своем протяжении. В соответствии с реконструкцией внутренней планировки (Зинько 2014: рис. 291), общая площадь жилого квартала не могла составлять менее 1000 кв. м.
Первая известная наземная каменно-сырцовая постройка Нимфея расположена на террасе в мысовой его части, и датируется серединой—третьей четвертью VI в. до н.э. Она
МАИАСП № 13. 2021
Градостроительные планы архаических греческих апойкий Северного Причерноморья: «идеальные» и реальные была связана с керамической мастерской (Бондаренко, Чистов 2021: 252—253), расположенной на участке, который исследователи памятника считают святилищем Деметры (Худяк 1962: 36—47). Массовый же переход к наземному домостроительству в Нимфее имел место несколько позднее, в последней четверти—конце VI в. до н.э. (Худяк 1962: 18) и привел к возникновению регулярной городской застройки на территории верхнего плато. Многокамерные жилые дома блокировались в кварталы и, по-видимому, имели общий уличный фронт.
К настоящему времени остатки жилой застройки позднеархаического периода выявлены на двух участках раскопок — «B-С» и «Г» (рис. 14). Степень их изученности очень различается: в мысовой части городища, на раскопе «Β-С» в той или иной степени полно раскрыты остатки нескольких жилых домов и общественных построек конца VI—V вв. до н.э. Здесь же исследованы отрезки двух пересекавшихся улиц, ориентированных в широтном и меридиональном направлениях, причем последняя заметно изгибалась к юго-востоку. Указанные улицы, по всей видимости, непрерывно функционировали с архаического времени до IV в. до н.э., хотя многократные перестройки прилегавших к ним домов заметно смещали их границы.
Западнее, на раскопе «Г», ранние строительные остатки исследовались лишь на тех участках, где этому не препятствовали эллинистические постройки, вследствие чего границы отдельных домов и их планировка восстанавливаются лишь гипотетически. Вместе с тем, и на этом раскопе был выявлен отрезок меридионально ориентированной городской улицы, существовавшей с позднеархаического времени. Уличная сеть Нимфея была, вероятно, ориентирована по осям север—юг и запад—восток, однако городская планировка уже с момента ее возникновения не была строго ортогональной. В особенности это проявлялось вблизи оконечности мыса, где очертания обрывистой береговой линии оказывали влияние на форму городских кварталов (Чистов 2017).
Взаимное расположение обнаруженных участков улиц поднеархаического и классического периодов позволяет предположить, что широтная улица, раскрытая в северной части раскопа «B-C», далее к западу могла служить северной границей квартала, частично исследованного на раскопе «Г» (рис. 14). В таком случае приблизительные размеры этого прямоугольного квартала, вытянутого в меридиональном направлении, составляют 29—35 м с запада на восток, и не менее 70—75 м с севера на юг, а на неисследованной территории, находящейся между указанными раскопами, должны находиться еще два примерно равных по площади квартала древнего Нимфея.
Широтная улица участка «B-C» могла бы служить одной из важных городских магистралей, пересекая всё плато Нимфея от исторического ядра апойкии на мысу с востока на запад, однако для такого вывода пока недостаточно данных. Ширина этой улицы на раскопанном участке составляла не менее 3,5 м, такую же ширину имела меридиональная позднеархаическая улица на раскопе «Г» (Чистов 2017: 147, 148). Со временем, в ходе перестроек примыкавших к улицам жилых домов, уличная сеть Нимфея подвергалась определенным деформациям. Тем не менее, некоторые ее элементы, как видно на примере западной меридиональной улицы раскопа «Г», непрерывно функционировали до первых веков н.э.
Небольшие участки единообразно ориентированной жилой застройки архаического и раннеклассического периодов раскрывались также в Порфмии (Vakhtina 2003: 45, fig. 18, 19, 20; Вахтина 2006: 39—40, рис. 10—11; 2009: 98—99, рис. 22), Гермонассе (Финогенова 2005: 423—425; Зеест 1974: 82, 87; Коровина 2002: 32—33), Синдской Гавани — Анапском поселении (Алексеева 1990: 20—22, рис. 1; 1997: 15—17, 283, табл. 3; 2010: 474—475. рис. 4)
МАИАСП № 13. 2021
и Патрее (Абрамов 2010: 531—532, рис. 3—4; Abramov 2003: 1104—1105; Захаров 2016: 184). Однако ни на одном из перечисленных памятников пока не обнаружены участки ранней уличной сети — за исключением маленького отрезка мощеной улицы V в. до н.э. в Горгиппии, имевшей трехметровую ширину (Алексеева 2003: 20).
Применительно к Пантикапею в целом говорить о регулярном плане невозможно, поскольку этот город развивался из исторического ядра на Верхнем плато г. Митридат по террасам ее склонов сообразно с особенностями рельефа местности и задачами обороны. Регламентация градостроительства в этом случае проявлялась в возникновении нескольких функциональных зон — раннего акрополя с теменосом на верхнем плато, небольшого района многокамерных жилых построек, примыкавшего к нему с севера; западного плато — территории, включенной в состав акрополя в конце VI в. до н.э., и, вероятно, использовавшейся для размещения административных зданий полиса, а также северного склона западного плато, занятого рядовой жилой застройкой (Толстиков 2015; 2017; Толстиков, Муратова 2013; Толстиков и др. 2002; 2003; 2004; 2017: 212—213). Вместе с тем, сеть, состоявшая из улиц шириной 2,5—3,20 м и ориентированная приблизительно по сторонам света (рис. 7), прослеживается на Западном плато и его северном склоне (Толстиков и др. 2017: 32—33, 255, табл. 19; Марченко 1979: 165; 1984: 6, 11—18).
Рядовые городские улицы архаических северопонтийских апойкий обычно имели схожую ширину, в большинстве случаев составляющую порядка 3—3,5 м. Так, достоверно зафиксированные улицы Борисфена насчитывали от 2,8 до 3,7 м в поперечнике, и лишь участок одной из продольных улиц (П3) достигает 5 м (Чистов 2021a: 97). По-видимому, стандартная ширина улиц, хоть и не выдерживалась точно, мыслилась равной 10—12 ионийским (египетским) футам. Каменное мощение систематически не применялось, хотя отдельные участки могли иметь плитовые вымостки. В остальных случаях улицы были замощены слоями черепков, мелкого камня или известковой крошки. Следы дренажа вдоль проезжей части прослеживаются во многих случаях, хотя его устройство, видимо, никак не регламентировалось.
Ко времени написания этой работы ни в одном из городских памятников Северного Причерноморья ни один архаический квартал не был раскрыт полностью — вместе с его внешними границами и всеми строительными остатками в их пределах. Три упомянутых выше квартала Борисфена — «А» и «Β» в западной части поселения и «Η» в восточной — изучены достаточно для того, чтобы достоверно оценить их форму, общую площадь и с высокой степенью вероятности определить общее количество жилых домов, составляющих эти кварталы. Большие участки архаических кварталов, позволяющие сделать предположения об их размерах и внутренней структуре, раскрыты также в Пантикапее, Фанагории, Мирмекии и Тиритаке.
Все исследованные участки жилых кварталов Березанского поселения свидетельствуют о том, что они состояли из многокамерных домов с внутренними дворами. Тыльные стены построек и ограды дворов, расположенные вдоль улиц, образовывали сплошной уличный фронт (рис. 4). Совершенно также организованы кварталы, частично раскрытые на раскопе «И» в Мирмекии и на раскопе XXVI Тиритаки. В Пантикапее наличие общего фронта вдоль «красных линий» улиц ставилось под сомнение (Толстиков и др. 2017: 36), хотя в некоторых местах на Ново-Эспланадном и Центральном раскопах Западного плато г. Митридат такой принцип застройки явно просматривается. Наличие сплошного фронта застройки вдоль улиц в архаическую эпоху также пока представляется маловероятным исследователям Ольвии (Буйских 2021: 692—693) и Фанагории (Кузнецов 2018a: 137).
МАИАСП № 13. 2021
Градостроительные планы архаических греческих апойкий Северного Причерноморья: «идеальные» и реальные
Вероятнее всего, представление о небольших изолированных одно- или двухкамерных домах, группирующихся вдоль улиц, но не блокирующихся в кварталы, в вышеперечисленных случаях является не отражением реального облика архаических домов, а результатом плохой сохранности или фрагментарной изученности их строительных остатков. Можно обратить внимание на то, что и на раскопе Р-25 в южной части Ольвии, и на Ново-Эспланадном раскопе Пантикапея архаические постройки представлены, по большей части, заглубленными в грунт помещениями — т.е. наземные части этих домовладений почти не сохранились.
Приведенные выше примеры демонстрируют много схожих черт в организации квартальной застройки. Ни в одном случае кварталы не имеют строго прямоугольных очертаний и значительно различаются по размерам, хотя площадь в пределах 2000—2500 м2, по-видимому, встречалась наиболее часто. Размеры некоторых кварталов по узкой стороне, близкие к 30—33 кв. м могут свидетельствовать о том, что их ширина предполагалась равной одному плетру (ста футам). Ширина в 100—120 футов характерна и для кварталов архаических городов с «линейной» («strip planning», «per srigas») планировкой, состоявших из двух рядов домовладений (Boyd, Jameson 1988: 333).
Регламентация внутреннего устройства проявлялась в ряде случаев в наличии «длинных стен», демаркировавших внутреннюю границу между двумя рядами домовладений. Однако ни в одном из городских центров Северного Причерноморья архаической эпохи на сегодняшний день не выявлено признаков стандартизации размеров индивидуальных наделов. Напротив, в приведенных выше примерах размеры отдельных домовладений внутри квартала могли различаться до полутора—двух раз12. Эта особенность является специфичной чертой архаической урбанизации ионийских апойкий Северного Причерноморья, явным образом отличающей ее как от раннеклассической планировки ионийской Керкинитиды, уже предполагавшей наделы примерно равных (80—110 кв. м) размеров и, по-видимому, прямоугольные стандартные кварталы (Кутайсов 1990: 70—78, 126), так и от «идеального плана» городской застройки дорийского Херсонеса середины — второй половины IV в. до н.э., по-видимому, основанной на участках домовладений равной площади (153—160 кв. м) и стандартного плана в границах регулярных кварталов (Буйских, Золотарев 2001: 114—128). Отличается она этим и от архаических колоний Великой Греции: так, например, план Мегары Гибели еще с конца VIII в. до н.э. предполагал разбивку территории кварталов первым поколением колонистов на наделы индивидуальных хозяйств равной площади, оцениваемой приблизительно в 120 кв. м (Tréziny 2016: 169—171).
Очевидное неравенство площади городских участков — ойкопедонов должно быть связано с пока не выясненными локальными особенностями организации колонизационного процесса в апойкиях Северного Причерноморья. Маловероятно, чтобы оно было вызвано дискриминацией эпойков, переселенцев второй и последующих волн, которым могли выделять участки меньшей площади13, поскольку на Березанском поселении такая картина наблюдается уже с самого раннего этапа городского строительства. По-видимому, принципы эгалитаризма (исономии) при основании новых городов и нарезке наделов—ойкопедонов для первого поколения поселенцев здесь строго не выдерживались.
Как было показано выше, регулярная планировка, в наилучшей степени исследованная в Борисфене, вовсе не была чем-то исключительным для античных колоний Северного Причерноморья архаического периода. Признаки наличия регламентации строительства, а в
МАИАСП № 13. 2021
ряде случаев — и целые участки схожим образом устроенной уличной сети, фиксируются при раскопках большинства городских памятников региона, урбанизация которых приходится на вторую половину VI в. до н.э. Для этих планировочных сеток характерно общее направление продольных и поперечных улиц: чаще всего — по сторонам света, но иногда — под 45% относительно широтной и меридиональной осей. Вместе с тем, улицы не были идеально ровными и параллельными, их ширина и направления нередко выдерживались очень приблизительно; отсутствовала унификация формы кварталов, количества и площади домовладений внутри них.
Т. Бойд и М. Джеймсон (Boyd, Jameson 1981: 340) отмечали, что в принципах организации архаических регулярных городов можно усмотреть два противоположных подхода: первый делает акцент на кварталах, т.е. на равном распределении земли в городе и на его хоре, а второй — на расположении основных улиц и их связи с общественными пространствами и сооружениями. В традиции, проявившейся в планировке городов Северного Причерноморья, второй акцент определено преобладал.
Период активной урбанизации, формирования уличной сети рассмотренных выше центров совпадает по времени с глубокими изменениями в градостроительных традициях греческого мира, выразившихся в развитии концепции общественных пространств и сооружений, роста значимости храмов, формализации архитектурных ордеров. Такие градостроительные концепции, как выделение района агоры и организация регулярной уличной сети, появившиеся в колониях Великой Греции еще в конце VIII—VII вв. до н.э., к этому времени внедряются и в «старых» греческих городах (Morris 1998: 23, 33—35, 73—74). В ходе урбанизации северопонтийских апойкий этот опыт не мог не применяться, поэтому всю совокупность наших знаний (пусть иногда весьма разрозненных) о самом раннем этапе их существования следует рассматривать в более широком контексте.
В Восточной Греции признаки регулярной планировки архаического времени выявлены в Старой Смирне и Милете14. После некоей катастрофы рубежа VIII—VII вв. до н.э., сопровождавшейся массовыми разрушениями, и возможно, связанной с землетрясением или атакой на Смирну лидийского царя Гигеса, традиция строительства домов криволинейного плана в этом городе постепенно сходит на нет; на смену ей приходит квартальная застройка иного характера — с общей диагональной ориентацией зданий и выделенными для общественных нужд участками (Cook 1958—1959: 14—16; Akurgal 1962: 374). Основной осью этой планировки служила главная улица, шириной около 6 м, пересекавшая укрепленную территорию города с юго-запада на северо-восток — к комплексу храма Афины. К «улице Афины» с севера и юга примыкали своими узкими сторонами жилые кварталы, разделенные поперечными улицами (одна из них имела ширину 2,3 м). Датировка улиц не всегда ясна из-за позднейших перестроек, хотя их принадлежность архаической планировочной сетке наиболее вероятна (Akurgal 1983: 45—46, Abb. 2; Lang 1996: 241, Abb. 106).
До сравнительно недавнего времени внедрение ортогональной планировки в Милете было принято относить к V в. до н.э., т.е. периоду восстановления города после персидского разгрома. Тем не менее, признаки регулярной организации городского пространства в метрополии многих северопонтийских апойкий датируются существенно более ранним временем. Еще в начале VII в. до н.э. в южной части полуострова (в районе между Театральной бухтой и Калабак-тепе) на месте сгоревших овальных построек
МАИАСП № 13. 2021
Градостроительные планы архаических греческих апойкий Северного Причерноморья: «идеальные» и реальные геометрического времени возводятся многокомнатные дома, имевшие общую ориентацию (Herda 2005: 281—282). Палеогеографические исследования показали, что до архаического периода территория будущего городского центра между Львиной гаванью и Южным рынком представляла собой мелководную лагуну или заболоченную территорию, которая в VI в. до н.э. подверглась осушению и отсыпке для расширения агоры и перепланировки центра города по ортогональной системе. Предполагается, что эти работы были частью масштабной перепланировки северо-восточных частей города, включая Кале-Тепе (Театральный Холм) и Хумей-Тепе. Храм Аполлона Дельфиния был также возведен на осушенном и снивелированном участке. Таким образом, регулярная планировка в Милете возникла задолго до Гипподама (Weber 2007: 355—359; Müllenhoff et al. 2009; Herda 2005: 278—285), а южные части города могли быть им распланированы с учетом ранее существовавших сеток района Львиной гавани и северной части полуострова. А. Херда выдвинул гипотезу, согласно которой авторство раннего регулярного плана города принадлежит Фалесу Милетскому, а начало его внедрения приходится приблизительно на вторую четверть VI в. до н.э. Предполагается, что именно с этими нивелировочными работами связан пересказанный Плутархом эпизод (Plut., Solon, 12) о «заброшенном месте» для своей могилы, предусмотрительно выбранном философом на участке, который в будущем должен был стать территорией агоры Милета (Müllenhoff et al. 2009: 108; Herda: 2019: 97, fig. 1).
Наиболее ранним примером регулярной уличной сети в материковой Греции в настоящее время считается планировка небольшого полиса Галии в Арголиде, датируемая VI в. до н.э. Эта система застройки возникла в ходе восстановления города после разрушений 590—580 гг. до н.э., причины которых не выяснены. Застройка Галий состояла из двух районов с различной ориентацией кварталов — сетка каждого из них включала несколько основных проспектов и восемь поперечных улиц (Rudolph, Boyd 1978: 338—343; Rudolph 1984: 140; Boyd, Jameson 1981: 328—333, fig. 1—2). Предполагается, что этот план базировался на модуле в 50 плетров площади (500 000 квадратных футов), и сочетал в себе черты архаических планировочных сеток с особенностями, более характерными для «гипподамовых» городов V в. до н.э. — сравнительно небольшой длиной и площадью кварталов и более частым расположением улиц (Boyd, Jameson 1981: 340—342).
По-видимому, близкой аналогией застройке Березани и других архаических городских центров Северного Причерноморья может быть урбанизированная структура Карабурнаки — неукрепленного поселения на берегу залива Термаикос в северной Эгеиде, по-видимому, имевшего в основном торговую и ремесленную специализацию. Обобщающее издание продолжающихся раскопок этого интересного памятника еще только готовится, однако опубликованные данные указывают на наличие организованного рядного плана в VI в. до н.э. (Tsiafakis 2010: 381—382, 386, fig. 260).
Перспективным направлением для изучения специфических черт урбанизации античных центров Северопонтийского региона могло бы стать сопоставление особенностей их ранней планировки с античными полисами Западного Причерноморья, однако и здесь мы пока наталкиваемся на недостаточную изученность архаических слоев. Недавно была выдвинута гипотеза о наличии на территории Западного плато Истрии регулярной планировки, основанная на сопоставлении ортофотопланов с данными раскопанных участков. Предполагается, что эта уличная сеть существовала по меньшей мере, на протяжении эллинистического периода, однако то, что она наследует раннюю архаическую планировку можно лишь предполагать на основании очень фрагментарных данных (Angelescu 2017: 195—196, 198—199). Небольшой участок древнейшей городской застройки Аполлонии, раскрытый на острове св. Кирилла в Созополе, включает участок мощеной городской улицы
МАИАСП № 13. 2021
шириной около 3 метров и остатки жилых и производственных построек, находившихся от него к северу и к югу (Panayotova et al. 2014: 595—596; Панайотова 2019: 128—132, обр. 1— 3). Ограниченная площадь раскопанного участка и отсутствие в его границах остатков других улиц пока не позволяет оценить размеры и форму городских кварталов исторического ядра этого полиса.
Изучение градостроительных моделей городов Северного Причерноморья — как архаического, так и последующих периодов античности находится все еще на начальном этапе разработки, поэтому представленная в нашем кратком обзоре картина по-прежнему выглядит очень фрагментарной. Не приходится сомневаться в том, что систематические современные археологические исследования, проводимые на базовых памятниках региона, со временем позволят ее существенно дополнить.
Список литературы Градостроительные планы архаических греческих апойкий Северного Причерноморья: "идеальные" и реальные
- Абрамов А.П. 2010. Патрей. В: Бонгард-Левин Г.М., Кузнецов В.Д. (ред.-сост.). Античное наследие Кубани. Т. I. Москва: Наука, 528—539.
- Алексеева Е.М. 1990. Раннее поселение на месте Анапы (VI—V вв. до н.э.). КСИА 197, 19—30.
- Алексеева Е.М. 1997. Античный город Горгиппия. Москва: Эдиториал УРСС.
- Алексеева Е.М. 2003. Анапа. Динамика развития центральной части античного города (VI в. до н.э. — III в. н.э.). ДБ 6, 18—43.
- Алексеева Е.М. 2010. Горгиппия. В: Бонгард-Левин Г.М., Кузнецов В.Д. (ред.-сост.). Античное наследие Кубани. Т. I. Москва: Наука, 470—509.
- Бондаренко Д.В., Чистов Д.Е. 2021. «Квартал гончаров» (участок «ГШ») в системе застройки и экономике архаического Борисфена. Stratum plus 3, 235—260.
- Бутягин А.М., Чистов Д.Е. 2015. Палеорельеф Карантинного мыса и архаическая застройка
- Мирмекия. В: Зинько В.Н., Зинько Е.А. (отв. ред.). БЧ XVI. Боспор Киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья. Географическая среда и социум. Керчь: НИЦ ИАК КФУ им. В.И. Вернадского; ЦАИ БФ «Деметра», 29—37.
- Буйских А.В. 2021. Градостроительный план Ольвии Понтийской. ВДИ 3 (81), 673—698.
- Буйских А.В., Золотарев М.И. 2001. Градостроительный план Херсонеса Таврического. ВДИ 1, 111—132.
- Вахтина М.Ю. 2006. Об архаическом Порфмии (по материалам раскопок 1986—1990, 2002—2005 гг. БИ XIII, 31—45.
- Вахтина М.Ю. 2009. Порфмий — греческий город у переправы через Киммерийский Боспор. БИ XXII, 91—126.
- Вахтина М.Ю. 2012. Об оборонительных системах Порфмия. ДБ 16, 24—38.
- Виноградов Ю.А. 1991. Исследования на западной окраине Мирмекия. КСИА 204, 71—77.
- Виноградов Ю.А. 1992. Мирмекий. В: Кошеленко Г.А. (отв. ред.). Очерки археологии и истории Боспора. Москва: Наука, 99—119.
- Гайдукевич В.Ф. 1952. Раскопки Тиритаки в 1935—1940 гг. МИА 25, 15—134.
- Долгоруков В.С., Колесников А.В. 1993. Новый тип строительных комплексов Фанагории. РА 1, 113—132.
- Завойкин и др. 2016: Завойкин А.А., Колесников А.Б., Сударев Н.И. 2016. Позднеархаические погребения на «Южном городе» Фанагории. В: Завойкин А.А. (отв. ред.). Фанагория. Результаты археологических исследований. Т. 4. Москва: ИА РАН, 110—207 (Материалы по археологии и истории Фанагории. Т. 2).
- Завойкин А.А., Кузнецов В.Д. 2020. Хронология архаического дома из Фанагории. В: Кузнецов В.Д. (ред.). Hypanis. Труды отдела классической археологии РАН. Т. 2. Москва: Институт археологии РАН, 2020, 129—140.
- Захаров Е.В. 2016. Раскопки на поселении Гаркуша 1 (Патрей). АО 2014, 183—184.
- Зеест И.Б. 1974. Возникновение и первый расцвет Гермонассы. СА 4, 82—97.
- Зинько В.Н. 2014. Тиритака. Раскоп XXVI. Т. II. Археологические комплексы VI—V вв. до н.э. Симферополь; Керчь: БФ «Деметра» (БИ Supplementum 11).
- Зинько В.Н. 2015. Крепостные сооружения боспорского города Тиритака. БИ XXXI, 100—109.
- Зинько В.Н. 2017. Жилые дома боспорского города Тиритака в графических реконструкциях. В: Форназiєр Й., Твардецький А., Браунд Д., Буйських А., Гаврилюк Н., Матера М., Шейко I. (ред.). Північне Причорномор’я за античної доби (на пошану С.Д. Крижицького). Киев: Стародавній світ, 222—230.
- Зинько В.Н. 2020. К вопросу о датировке ранних крепостных стен боспорского города Тиритака. АВ 29, 129—135.
- Коровина А.К. 2002. Гермонасса. Античный город на Таманском полуострове. Москва: ГМИИ им. А.С. Пушкина.
- Крижицький С.Д., Каряка О.В. 2007. До історії створення загального плану архітектурно-будівельних залишків Ольвії. Археологія 3, 66—80.
- Крыжицкий С.Д. 1985. Ольвия. Историографическое исследование архитектурно-строительных комплексов. Киев: Наукова думка.
- Крыжицкий С.Д., Лейпунская Н.А. 2014. Жилые дома Центрального квартала Ольвии. Симферополь; Керчь: БФ «Деметра» (МАИЭТ Suppl. 13).
- Крыжицкий С.Д., Назарчук В.И. 1994. Новый памятник строительства позднеархаической Ольвии. В: Охотников С.Б. (отв. ред.). Древнее Причерноморье. КС ОАО. Одесса: Одесское археологическое общество, 99—106.
- Кузнецов В.Д. 2009. Фанагория в архаическое время. В: Марченко И.И. (ред.). Пятая кубанская археологическая конференция. Материалы конференции. Краснодар: Кубанской государственный университет, 192—198.
- Кузнецов В.Д. 2010. Фанагория — столица Азиатского Боспора. В: Бонгард-Левин Г.М., Кузнецов В.Д. (ред.-сост.). Античное наследие Кубани. Т. I. Москва: Наука, 430—469.
- Кузнецов В.Д. 2017. Великая греческая колонизация и основание Пантикапея и Фанагории. В: Пантикапей и Фанагория. Две столицы Боспорского царства. Москва: ГМИИ им. А.С. Пушкина, 43—46.
- Кузнецов В.Д. 2018a. Домостроительство северного Понта (эпоха архаики). В: Кузнецов В.Д., Завойкин А.А. (отв. ред.). Материалы по археологии и истории Фанагории. Т. 4. Москва: ИА РАН, 117—135 (Фанагория. Результаты археологических исследований. Т. 7).
- Кузнецов В.Д. 2018b. Фанагория: заметки по планировке города. ДБ 22, 133—140.
- Кузнецов В.Д. 2019. Древнейшая Фанагория: некоторые проблемы. ДБ 24, 396—414.
- Кузнецов В.Д., Абрамзон М.Г. 2020. Клад позднеархаических монет из Фанагории. Москва: ИА РАН (Фанагория. Результаты археологических исследований. Т. 8).
- Лаптева М.Ю. 2017. Археология Ионии начала XXI в. в диалоге и конфликте с нарративной традицией. Stratum plus 3, 381—390.
- Леви Е.И. 1985. Ольвия — город эпохи эллинизма. Ленинград: Наука.
- Марченко И.Д. 1979. О планировке Северного склона Пантикапея (к проблеме изучения агоры). СА 2, 164—178.
- Марченко И.Д. 1984. Раскопки Пантикапея в 1965—1972 годах. СГМИИ VII, 3—27.
- Панайотова К. 2019. Проучванията на о-в св. Кирик. В: Баралис А., Панайотова К., Недев Д. (ред.). Аполония Понтийска. Колекции на Лувър и български музеи. София: Фабер, 128—132.
- Поваляев Н.Л. 2010. Идеальный полис и колонизация. ПИФК 1, 538—559.
- Толстиков В.П. 2015. Новые материалы к изучению древнейшей истории Пантикапея. ПИФК 1 (47), 261—281.
- Толстиков В.П. 2017. Очерк градостроительной истории центрального района Пантикапея. В: Пантикапей и Фанагория. Две столицы Боспорского царства. Москва: ГМИИ им. А.С. Пушкина, 69—84.
- Толстиков В.П., Муратова М.Б. 2013. К проблеме пространственного развития Пантикапейской апойкии в первой половине VI — первой половине V в. до н.э. ВДИ 1, 176—192.
- Толстиков и др. 2002: Толстиков В.П., Журавлев Д.В., Ломтадзе Г.А. 2002. Архаический толос на акрополе Пантикапея. В: Вахтина М.Ю., Зуев В.Ю., Кашаев С.В., Хршановский В.А. (ред.).
- Боспорский феномен: погребальные памятники и святилища. Материалы международной научной конференции. Ч. 1. Санкт-Петербург: Государственный Эрмитаж, 43—49.
- Толстиков и др. 2003: Толстиков В.П., Журавлев Д.В., Ломтадзе Г.А. 2003. Многокамерные строительные комплексы в системе застройки акрополя Пантикапея VI—V вв. до н.э. ДБ 6, 307—348.
- Толстиков и др. 2004: Толстиков В.П., Журавлев Д.В., Ломтадзе Г.А. 2004. Новые материалы к хронологии и истории раннего Пантикапея. ДБ 7, 344—365.
- Толстиков и др. 2017: Толстиков В.П., Асташова Н.С., Ломтадзе Г.А., Самар О.Ю., Тугушева О.В. 2017. Древнейший Пантикапей. От апойкии — к городу. Москва: Перо.
- Фармаковський Б.В. 1929. Розкопування Ольбії р. 1926 (Звит з двома планами й 60 фотознимками). Одеса: Iсторично-Археологiчний музей.
- Финогенова С.И. 2005. Очерк истории Гермонассы по материалам раскопок последних лет. ДБ 8, 422—442.
- Чистов Д.Е. 2009. И.Б. Брашинский и исследования планировки жилых кварталов восточной части Мирмекия. Записки Института истории материальной культуры 4, 232—239.
- Чистов Д.Е. 2017. Урбанизация архаического Нимфея. В: Бутягин А.М., Соколова О.Ю., Чистов Д.Е. (ред.-сост.). Перипл: от Борисфена до Боспора. Санкт-Петербург: Государственный Эрмитаж, 137—160 (ТГЭ 88).
- Чистов Д. 2021a. Вулиці архаїчного Борисфена. Емінак 1 (33), 93—109.
- Чистов Д.Е. 2021b. Двойное погребение — кремация на территории городских кварталов: героон архаического Борисфена? КСИА 3, 165—178.
- Худяк М.М. 1962. Из истории Нимфея VI—III вв. до н.э. Ленинград: Государственный Эрмитаж.
- Яйленко В.П. 1982. Греческая колонизация VIII—III вв. до н.э. Москва: Наука.
- Abramov А.P. 2003. Patraeus. In: Grammenos D.V., Petropoulos E.K. (eds.). Ancient Greek Сolonies in the Black Sea. Vol. II. Thessaloniki: Archaeological Institute of Northern Greece; Greek Ministry of Culture, 1103—1153.
- Akurgal E. 1962. The Early Period and the Golden Age of Ionia. AJA 66 (4), 369—379.
- Akurgal E. 1983. Alt-Smyrna I. Wohnschichten und Athenatempel. Ankara: Türk Tarih Kurukumu Basimevi.
- Angelescu M. 2017. Histria. Un système urbain orthogonal sur le “Plateau”? Pontica 50, 193—214. archaeolog.ru: 1: Исследование Фанагории (ИА РАН). URL: https://www.archaeolog.ru/ru/about/history/expeditions-1990-present/issledovaniya-fanagorii-ia-ran (дата обращения 01.11.2021).
- Boyd T.D., Jameson M.H. 1981. Urban and Rural Land Division in Ancient Greece. Hesperia 50 (4). Greek Towns and Cities: A Symposium (Oct. — Dec., 1981), 327—342.
- Bujskikh A., Chistov D. 2018. Architectural Details and Monumental Buildings at Borysthenes. Caiete ARA 9, 5—22.
- Chistov D. 2021. New Data on the Late Archaic Civic Centre of the Berezan Settlement. Courtyard with Altar in the City Block “H”. In: Fornasier J., Bujskich A.V. (Hrsg.). An den Ufern des Bug. Deutsch-ukrainische Ausgrabungen in Olbia Pontike im Kontext internationaler Forschungen zu antiken Migrationsprozessen. Bonn: Dr. Rudolf Habelt GmbH., 115—136 (Frankfurter Archäologische Schriften).
- Chistov D., Krutilov V. 2014. The archaic town on the Berezan island: new studies on the chronology and urban planning of the Berezan settlement. In: Povalahev N. (Hrsg.). Phanagoreia und darüber hinaus.... Festschrift für Vladimir Kuznetsov. Göttingen: Cuvillier, 209—230.
- Chistov D.E. 2015. The civic centre of Archaic Borysthenes: a new approach to localization. In: Tsetskhladze G. (ed.). The Danubian Lands between the Black, Aegean and Adriatic Seas (7th century BC — 10th century AD). Proceedings of the Fifth International Congress on Black Sea Antiquities. London: Archaeopress, 403—413.
- Cook J.M. 1958—1959. Old Smyrna, 1948—51. The Annual of the British School at Athens. 1958—1959 (53—54), 1—34.
- Hansen M.H. 2005. Introduction. In: Hansen M.H. (ed.). The Imaginary Polis. Copenhagen: The Royal Danish Academy of Sciences and Letters, 9—24 (Acts of the Copenhagen Polis Centre 7).
- Herda A. 2005. Apollon Delphinios, das Prytaneion und die Agora von Milet. Neue Forschungen. AA 1, 243—294.
- Herda A. 2019. Copy and paste? Miletos before and after the Persian Wars. In: Dogniez C., Capet E., Gorea M., Rouillard-Bonraisin H., Massa F., Koch-Piettre R. (eds.). Reconstruire les villes: Modes, motifs et récits. Turnhout: Brepols, 91—120 (Semitica & classica. Supplementa 1).
- Hoepfner W., Schwandner E-L. 1994. Haus und Stadt im klassischen Griechenland. München: Deutscher Kunstverlag.
- Lang F. 1996. Archaische Siedlungen in Griechenland: Struktur und Entwicklung. Berlin: Akademie Verlag.
- Morris I. 1998. Archaeology and archaic Greek history. In: Fisher N., van Wees H. (eds.). Archaic Greece: new approaches and new evidence. London: Duckworth, 1—92.
- Müllenhoff et al. 2009: Müllenhoff M., Herda A., Brückner H. 2009. Geoarchaeology in the City of Thales: Deciphering Palaeogeographic Changes in the Agora Area of Miletus. In: Mattern T., Vött A. (Hrsg).
- Mensch und Umweltim Spiegel der Zeit. Aspekte geoarchäologischer Forschungenim östlichen Mittelmeergebiet. Wiesbaden: Harrassowitz, 97—110.
- Panayotova et al. 2014: Panayotova K., Damyanov M., Stoyanova D., Bogdanova T. 2014. Apollonia Pontica: The Archaic Temenos and Settlement on the Island of St. Kirik. In: Alvarez J.M., Nogales T., Rodà I. (eds.). Proceedings of XVIII-th International Congress of Classical Archaeology. Centre and periphery in the ancient world. Vol. I. Mérida: Museo Nacional de Arte Romano, 595—598.
- Rudolph W.W. 1984. Excavations at Porto Cheli and Vicinity, Preliminary Report VI: Halieis, the Stratigraphy of the Streets in the Northeast Quarter of the Lower Town. Hesperia 53 (1), 123—170.
- Rudolph W.W., Boyd T.D. 1978. Excavations at Porto Cheli and Vicinity Preliminary Report IV: The Lower Town of Halieis, 1970—1977. Hesperia 47 (4), 333—355.
- Solovyov S.L. 1999. Ancient Berezan: The architecture, history and culture of the first Greek colony in the Northern Black Sea. Leiden: Brill (Colloquia Pontica 4).
- Tréziny H. 2016. Archaeological data on the foundation of Megara Hyblaea. Certainties and hypotheses. In: Donnelan L., Nizzo V., Burgers G.I. (eds.). Conceptualizing early colonization. Bruxelles; Rome: Belgisch Historisch Insituut te Rome, 167—178.
- Tsetskhladze G. 2006. Revisiting Ancient Greek colonization. In: Tsetskhladze G. (ed.). Greek Colonisation: an account of Greek colonies and other settlements overseas. Vol. 1. Leiden; Boston: Brill, xxiii—lxxxiii (Mnemosyne Supplementum 1).
- Tsiafakis D. 2010. Domestic Architecture in the Northern Aegean: the Evidence from the ancient settlement of Karabournaki. In: Tréziny H. (ed.). Grecs et indigènes de la Catalogne à la mer Noire: Actes des rencontres du programme européen Ramses 2 (2006—2008). Aix-en-Provence: Publications du Centre Camille Jullian, 379—387.
- Twardecki A. 2014. The Ancient site of Tyritake in the Cymmerian Bosporus. Polish excavations 2008— 2013. In: Twardecki A. (ed.). Tyritake. Antique Site at Cimmerian Bosporus. Warsaw: The National Museum in Warsaw, 15—46.
- Twardecki Α. 2016. Polish excavations at Tyritake 2008—2014. A small revolution in archaic architecture. In: Manoledakis M. (ed.). The Black Sea in the Light of New Archaeological Data and Theoretical Approaches. Proceedings of the 2nd International Workshop on the Black Sea in Antiquity held in Thessaloniki, 18—20 September 2015. Oxford: Archaeopress, 29—40.
- Vakhtina M.Ju. 2003. Archaic buildings of Portmion. In: Bilde G.P., Højte J.M., Stolba V.F. (eds.). The Cauldron of Ariantas, Studies Presented to A.N. Sceglov on the Occasion of His 70th Birthday. Aarchus: Aarhus University Press, 37—54 (Black Sea Studies 1).
- Weber B.F. 2007. Der Stadtplan von Milet. In: Cobet J., von Graeve V., Niemeier W.-D., Zimmermann K. (Hrsg.). Frühes Ionien: eine Bestandaufnahme. Akten des Internationalen Kolloquiums zum einhundertjāhrigen Jubilāum der Ausgrabungen in Milet, Panionion/Güzelçamlı, 26.09.-01.10.1999. Meinz: Verlag Philipp Von Zabern, 327—362 (Milesische Forschungen 5).