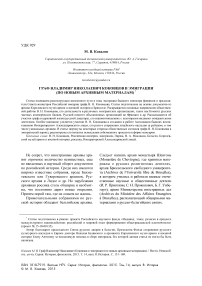Граф Владимир Николаевич Коковцов в эмиграции (по новым архивным материалам)
Автор: Ковалев Михаил Владимирович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Российская история
Статья в выпуске: 8 т.14, 2015 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена реконструкции жизненного пути в годы эмиграции бывшего министра финансов и председателя Совета министров Российской империи графа В. Н. Коковцова. Статья подготовлена на основе документов из архива Королевского музея армии и военной истории в Брюсселе. Раскрываются основные направления общественной работы В. Н. Коковцова, его деятельность в различных эмигрантских организациях, таких как Комитет русских частных коммерческих банков, Русский комитет объединенных организаций во Франции и др. Рассказывается об участии графа в церковной жизни русской диаспоры, его взаимоотношениях с некоторыми видными эмигрантскими деятелями. Особое внимание уделяется участию В. Н. Коковцова в создании и работе Ассоциации бывших воспитанников Императорского Александровского лицея, его роли в сохранении лицейского наследия за рубежом, в том числе уникальных архивов. В статье затронуты некоторые стороны общественных взглядов графа В. Н. Коковцова в эмигрантский период, рассмотрены его попытки осмысления собственного прошлого в форме мемуаров.
В. н. коковцов, российская империя, эмиграция, париж, в. а. маклаков, бельгия, королевский музей армии и военной истории, россика, императорский александровский лицей
Короткий адрес: https://sciup.org/147219420
IDR: 147219420 | УДК: 929
Текст научной статьи Граф Владимир Николаевич Коковцов в эмиграции (по новым архивным материалам)
Не секрет, что иностранные архивы хранят огромное количество неизвестных, еще не введенных в научный оборот документов по российской истории. Среди них имеются широко известные собрания, вроде Бахме-тевского или Гуверовского архивов, Русского архива в Лидсе и др. Но зарубежная архивная россика столь обширна и необъятна, что постоянно дарит новые открытия. Причем порой там, где их совсем не ждешь.
Примечательными собраниями по русской истории обладают бельгийские архивы.
Следует назвать архив монастыря Шевтонь (Monastère de Chevtogne), где хранятся материалы о русских религиозных деятелях, архив Брюссельского свободного университета (Archives de l’Université libre de Bruxelles), в котором учились и работали видные отечественные научные и общественные деятели (И. Р. Пригожин, С . Н. Прокопович, Б. Г. Унбе-гаун), архив Министерства иностранных дел (Archives du Ministère des Affaires Étrangères à Bruxelles), располагающий обширными материалами о русско-бельгийских связях.
Каждому, кто посещал Брюссель, знаком величественный комплекс музейных зданий в Парке Пятидесятилетия. С левой стороны от Триумфальной арки, венчающей весь архитектурный ансамбль, находится один из лучших европейских военных музеев – Королевский музей армии и военной истории (Le Musée royal de l’Armée et d’Histoire Militaire). Он замечателен не только своей уникальной коллекцией, но также богатейшим архивным собранием, в котором, в том числе, представлены материалы по российской истории. Русские документальные коллекции сформировались там еще в 1930-е гг. усилиями эмигрантов, желавших сохранить реликвии и память о прошлом. По этой причине множество документов касается именно русской послереволюционной диаспоры. Материалы сосредоточены в основном в фондах союзов бывших военнослужащих императорских гвардейских полков, Объединенной казачьей станицы в Бельгии, Ассоциации бывших воспитанников Императорского Александровского лицея. Все фонды имеют подробные описи на русском и французском языках; ограничений для работы с ними нет. Огромная заслуга в деле их введения в научный оборот принадлежит бельгийскому ученому русского происхождения, председателю Союза русских дворян в Бельгии доктору Николаю Сергеевичу Белявскому (Nicolas Bieliavsky), необычайно много сделавшему и делающему сейчас для сохранения эмигрантского наследия [Bieliavsky, 2001; 2002]. Российские исследователи уже обращались к архивам Королевского музея армии и военной истории, как, например, С. М. Некрасов [1997]. Следует упомянуть квалифицированный обзор фонда Объединенной казачьей станицы, сделанный Е. И. Беловой и Е. Е. Седовой [2009]. Напротив, сильно разочаровывает на этом фоне статья Е. А. Соколовой и И. С. Алексеева об архиве Ассоциации бывших воспитанников Императорского Александровского лицея [2010а]. Складывается впечатление, что авторы просто пересказали, причем весьма вольно, опубликованные описи фонда, к их счастью, весьма подробные и обстоятельные (см.: [Архив Императорского Александровского Лицея…, 1937; Мамонтова, 2001]). Даже в названии их статьи допущена серьезная ошибка, ибо в Брюсселе хранится не архив самого лицея, а архив союза его выпускников. Так бывали ли Е. А. Соколова и И. С. Алексеев в брюссельском музее, знакомились ли сами с документами? Увы, ссылок на конкретные архивные материалы ни в этой, ни в других статьях указанных авторов нет. Однако оставим все догадки на чужой совести и сосредоточимся на конкретном интересующем нас вопросе.
В середине 1920-х гг. в Париже группа выпускников Императорского Александровского (бывшего Царскосельского) лицея положила начало формированию уникальной документальной коллекции, основу которой составили материалы, вывезенные из России после революции и Гражданской войны. Она пополнялась на протяжении 1920–1930-х гг. за счет дарений самих эмигрантов или, в редких случаях, за счет покупки. В 1937 г. лицейский союз принял решение передать свой архив на временное хранение в Брюссель, о чем еще будет специально сказано в этой статье.
Одним из инициаторов собирания лицейских материалов был выдающийся государственный деятель Российской империи, министр финансов в 1904–1905 и 1906–1914 гг., председатель Совета министров в 1911– 1914 гг. граф Владимир Николаевич Коковцов (1853–1943). Благодаря этому факту, в брюссельском архиве отложилось значительное число документов о его жизни и деятельности, особенно в годы вынужденной эмиграции. Они в значительной степени дополняют небольшое собрание В. Н. Коковцова в Государственном архиве Российской Федерации (Ф. 6734), некогда поступившее из Праги в составе Русского заграничного исторического архива 1. К сожалению, брюссельскую коллекцию нельзя назвать полной, ибо содержательно она связана в первую очередь с лицейским прошлым графа, а хронологически – с эмигрантским периодом. Но этот диссонанс на самом деле мнимый. Сохранившиеся документы хорошо обрисовывают одну из специфических черт мемориальной культуры русской эмиграции – повышенную рефлексию по поводу прошлого и щемящее чувство ностальгии. Живя во Франции, старый царский бюрократ мысленно возвращался в Россию. Его деятельность в эмигрантский период во многом была связана с судьбами бывших лицеистов, с сохранением памяти о прошлом. Два мира, две эпохи сойдутся в судьбе одного человека. Но, обо всем по порядку.
Февральская революция прервала карьеру графа В. Н. Коковцова. Лишившись многих прежних постов, он начал вести частную жизнь. В ноябре 1917 г. вместе с семьей он уехал в Кисловодск, чтобы поправить здоровье, однако в мае 1918 г. был вынужден вернуться в Петроград. Там В. Н. Коковцов вполне ожидаемо попал под пристальное внимание новых властей, и уже в июне 1918 г. был арестован Петроградской ЧК. Допрашивал графа лично М. С. Урицкий. После долгого разговора он отдал приказ об освобождении В. Н. Коковцова, но предупредил, что если получит из Москвы предписание о повторном аресте, то непременно исполнит его [Коковцов, 1933. Т. 2. С. 460]. Не дожидаясь трагической развязки, граф принял решение покинуть Советскую Россию и в октябре 1918 г. вместе с женой Анной Федоровной нелегально перешел границу с Финляндией, откуда вскоре перебрался во Францию.
Коковцовы оказались в Париже в конце 1918 г., как раз в тот момент, когда французское правительство приступило к подготовке мирных переговоров с Германией. Семья графа встретила необычайно радушный прием со стороны французских властей, особенно – со стороны президента страны Раймона Пуанкаре (Raymond Poincaré), который был знаком с В. Н. Коковцовым еще с начала XX в. Они неоднократно встречались, в том числе во время официальных визитов Р. Пуанкаре в Россию в 1912 и 1914 гг. По инициативе французского политика в честь графа был устроен роскошный прием, на который были приглашены все видные общественные и политические деятели государства. В своей приветственной речи Р. Пуанкаре обратился к А. Ф. Коковцовой со словами: «Для меня большая отрада, что Вам и Вашему мужу удалось спастись и приехать именно во Францию. Я хочу Вас просить верить тому, что у Вас здесь много друзей и в числе их я хотел бы быть одним из самых искренних» 2. Дружеские связи и знакомства во французской среде выделяли В. Н. Коковцова из основной массы русских эмигрантов, отношение к которым со стороны французов было достаточно прохладным. Но высокий статус в местной среде не гарантировал такого же статуса среди соотечественников. Отношение к монархисту В. Н. Коковцову в демократических и социалистических кругах русского Париже было не всегда однозначным.
Показательна история с созывом в Париже в конце 1918 г. Русского политического совещания, которое должно было представлять на международном уровне интересы антибольшевистских сил, и, в том числе, должно было отстаивать интересы России на Версальской конференции. В него вошли видные русские эмигранты – посол во Франции В. А. Маклаков и его предшественник А. П. Извольский, посол в Риме М. Н. Гирс, посол в США Б. А. Бахметев, посланник в Берне И. Н. Ефремов, бывший министр торговли и промышленности А. И. Коновалов. Несколько позднее его членами стали Н. В. Чайковский, Б. В. Савинков, С. Д. Сазонов. Большинство членов совещания не пожелали видеть в своих рядах В. Н. Коковцова, обвиняя его в лояльности самодержавию. Прежняя близость к трону отталкивала от графа многих видных эмигрантских деятелей. Ключевую роль среди них он играть не мог. В. Н. Коковцов переживал из-за своего отстранения от участия в Русском политическом совещании. Несмотря на это, он пытался использовать свое влияние во французских кругах, чтобы донести до иностранцев истинные проблемы России. По выражению одного из современников, граф со свойственным ему тактом исполнял роль «непризнанного Посла, временно сошедшей с исторической сцены Российской Империи» 3.
Очевидные неудачи на политическом поприще заставили В. Н. Коковцова сосредоточиться на иных сферах деятельности. Граф принял предложение стать председателем Административного совета восстановленного в Париже Петроградского международного коммерческого банка, одного из крупнейших банков Российской империи, имевшего свои представительства во Франции, Германии и США. Дело в том, что на фоне большевистской национализации акционерных капиталов частных банков, со- гласно декрету 1918 г., некоторые из них сумели вывести свои средства за рубеж. В Париже в 1919 г. возник Комитет русских частных коммерческих банков (Банковский комитет), который возглавил В. Н. Коковцов. Организация ставила своей задачей отстаивание интересов русских банков за границей, разрабатывало проекты реконструкции финансовой системы в России после падения большевиков. В январе 1922 г. В. Н. Коковцов также возглавил Объединение деятелей русского финансового ведомства, членами которого стали бывшие чиновники и предприниматели. Одним из направлений своей работы они видели научную и аналитическую оценку советской экономики [Салома-тина, 2011. С. 28]. С. А. Саломатина верно заметила, что российская банковская эмиграция не имела реального влияния на французские правительственные или предпринимательские круги (особенно после официального признания Францией СССР в октябре 1924 г.). Она не могла ничего противопоставить, кроме «собственных убеждений, чувства гражданского и профессионального долга» [Там же]. Понимал это и В. Н. Коковцов. Рискну предположить, что именно неудачи на политическом поле и разочарования на финансовом побуждали графа все больше и больше сосредотачиваться на научно-аналитической и общественной работе. Да, эти сферы были хорошо знакомы ему еще до революции, но именно в годы жизни за границей они заняли в его деятельности чрезвычайно большое место.
В. Н. Коковцов пытался осмыслить опыт экономического развития Российской империи в свете пережитых исторических потрясений. Он полагал, что его мнение может пользоваться авторитетом во французской среде. Вероятно, поэтому все его научноаналитические работы 1920–1930-х гг. публиковались по-французски, они были направлены не столько эмигрантскому, сколько иностранному читателю. Так, 6 февраля 1926 г. граф прочел в Париже большую лекцию о взаимоотношениях России и Франции, сфокусировав свое внимание на проблемах российских внешних долгов, которые отказались признавать большевики [Kokovtzoff, 1926]. На протяжении 1923–1925 гг. специально для знаменитого общественно-политического журнала «Revue des Deux Mondes» В. Н. Коковцов писал обстоятельные обзоры развития советской экономики, которые впоследствии были изданы в качестве отдельных брошюр [Kokovtzoff, 1923; 1924a; 1925]. Основное внимание в его работах было уделено особенностям аграрного развития Советской России, осмыслению причин кризиса сельского хозяйства, в частности, голода начала 1920-х гг. [Kokovtzoff, 1924б; 1924в]. В 1931 г. В. Н. Коковцов издал по-французски монографию «Большевизм в действии: моральная и экономическая разруха в советской стране» [Kokovtzoff, 1931]. Предисловие к ней было написано Р. Пуанкаре. Впрочем, аналитическому разбору этих работ следует посвятить специальное исследование 4.
Небезынтересно отметить, что эмиграция примирила двух давних оппонентов – В. Н. Коковцова и проф. П. П. Мигулина, который некогда был одним из последовательных и едких критиков финансовой политики правительства. Оба после революции оказались во Франции, первый – в Париже, второй – в Ницце. Академик Б. В. Ананьич, изучавший документы П. П. Мигулина в Бахметевском архиве Колумбийского университета, пришел к выводу, что пережитые профессором потрясения привели к переоценке прежних взглядов. Он признал ошибочной былую критику В. Н. Коковцова и согласился с тем, что действия графа способствовали относительно благополучному положению российской экономики перед Первой мировой войной [Ананьич, 2003. С. 370]. В апреле 1928 г., в 75-летнюю годовщину В. Н. Коковцова, П. П. Мигулин направил ему сердечное поздравление, в котором извинялся за прежние оценки. Графа это послание растрогало, и он написал в ответ пространное письмо, содержащее оценку своего жизненного пути: «…Когда из уст Ваших, моего противника и человека с Вашим научным прошлым и Вашими заслугами перед русскою финансовую наукою, я слышу теперь, что ошибок я не делал, и стране моей, которую я всегда любил выше всего, я не положил в руку камень вместо хлеба, – в мою душу входит большое нравственное удовлетворение, и я начинаю с большим спокойствием смотреть на пройденный мною жизненный путь и не считать себя призрачным и бесполезным блуждающим огнем на отведенном мне судьбою жизненном пути <…> Теперь над прошлым надвинут тяжелый могильный камень, и я рад, что мы с Вами оба стоим перед ним и благоговейно отдаем ему дань нашей любви, протягивая друг другу руки примирения, в одинаковом порыве благородного к этому дорогому покойнику отношения. Я охотно беру эту протянутую руку, крепко жму ее и сердечно благодарю Вас за то, что Вы дали мне отраду к дорогому для меня дню» [Там же. С. 371–372].
Живя во Франции, В. Н. Коковцов активно занимался решением социальных и правовых проблем русской диаспоры. Он участвовал в работе нескольких организаций, занимавшихся оказанием помощи русским беженцам. В июле 1924 г. граф возглавил Русский комитет объединенных организаций во Франции (Русский комитет), сплачивавший в первую очередь правые круги эмиграции, но занимавшийся не политическими, а социальными вопросами. В 1924 г. Франция официально признала СССР, и эмигрантам необходимо было сложить усилия для защиты своих интересов, что было весьма непросто в условиях непрекращаю-щихся идеологических разногласий. Тогда по инициативе В. А. Маклакова возникла идея создания Эмигрантского комитета, который должен был работать «на основе биполярного представительства правых и левых» [Там же]. Русские ассоциации во Франции должны были присоединиться либо к правым, представляемых Русским комитетом, либо к левым во главе с Советом общественных организаций во главе с А. И. Коноваловым. Затем эти два объединения направляли своих представителей в Центральную комиссию из десяти членов во главе все с тем же В. А. Маклаковым [Гусефф, 2014. С. 277]. Вплоть до Второй мировой войны правые в Эмигрантском комитете преобладали, что, по всей видимости, было связано с влиянием В. Н. Коковцова, который обеспечил присоединение к своему Русскому комитету большого числа русских организаций. При этом во всех случаях и правым, и левым удавалось добиваться согласия и решать насущные потребности русской диаспоры, защищать ее социальные, трудовые и иные права. Приведем хотя бы один пример. В начале 1920х гг. по решению Лиги Наций был введен так называемый «нансеновский сбор». Русские эмигранты должны были вносить его путем покупки 5-франковых марок, которые наклеивались на их беженские паспорта. З. С. Бочарова, ведущий специалист по вопросам правового положения русских беженцев, отмечает, что эти средства поступали в особый фонд, средства из которого использовались в первую очередь для переселения и обустройства русских в Северной и Южной Америке [Бочарова, 2002; Русские беженцы…, 2004. С. 244–246]. Лишь в 1929 г. по решению 10-й сессии Лиги Наций русские организации получили право самостоятельного расходования части средств из этого фонда. Теперь половина денег от сборов перечислялась в Женеву, а вторая поступала в Распределительный комитет в Париже. Он входил в состав уже упоминавшегося Эмигрантского комитета, его состав избирался раз в три года и утверждался Министерством иностранных дел Франции [Русские беженцы…, 2004. С. 358]. Председателем Распределительного комитета был избран В. Н. Коковцов, а двумя членами – видный эсер Н. Д. Авксентьев и октябрист Н. В. Савич. По-видимому, политическая пестрота триумвирата должна была придать его работе деидеологизированный, беспристрастный характер. И действительно, граф отдал ей много сил. На одном из своих отчетных докладов он произнес: «Как близкий и долголетний свидетель наших беженских нужд, я думаю, что, если не все сделано, то сделано многое, а сделать все – не во власти человеческой, в особенности, когда перед нами прошла картина тех трудностей, с которыми сопряжена работа по защите нашей эмигрантской нужды. И если этой цели мне удалось достигнуть, то, считаю, что понес немалый труд не напрасно, так как само по себе ничто не устраивается» 5. Уже в течение первого года существования Комитет выдал пособия 61 эмигрантскому учреждению на общую сумму 424 800 франков, в 1936 г. – 81 учреждению на сумму 487 575 франков. Вплоть до 1940 г., пока Распределительный комитет не был закрыт немецкими оккупационными властями, ежегодный объем финансовой помощи составлял в среднем 400 000 франков 6.
Тем не менее общественная работа В. Н. Коковцова, несмотря на его попытки идти на компромиссы, его желание искать пути согласия и примирения, не была безоблачной 7. Она подверглась нападкам со стороны крайне правых эмигрантских группировок. В 1935 г. в Женеве скоропостижно скончался талантливый дипломат Константин Николаевич Гулькевич, который с 1921 г. занимал должность советника комиссара Лиги Наций по делам беженцев и усердно отстаивал интересы русской эмиграции. Необходимо было найти ему достойного преемника, которого должен был избрать Консультативный комитет частных организаций. После определенных колебаний свое согласие на участие в выборах дал глава Эмигрантского комитета В. А. Маклаков. На должность его заместителя претендовало три человека. Сам В. А. Маклаков предложил кандидатуру адвоката Якова Львовича Рубинштейна (1879–1963), устраивавшую и либералов, и социалистов. Правые же силы выдвинули известного хирурга И. П. Алексинского. По итогам голосования победу одержал Я. Л. Рубинштейн, которого поддержало большинство русских организаций [Гусефф, 2014. С. 285–286]. И тут разразился скандал, инициированный крайне правыми силами. Они развернули целую кампанию против Я. Л. Рубинштейна, носившую явный антисемитский характер. Одним из ее главных действующих лиц стал генерал Е. К. Миллер (1867–1939), который подключил к протесту многие русские военные объединения. В этой ситуации В. Н. Коковцов проявил свою гражданскую позицию: он не пошел на поводу у крайне правых, а, напротив, поддержал Я. Л. Рубинштейна. На собрании Эмигрантского комитета в июне 1936 г. граф напомнил, что русская эмиграция многим обязана именно этому адвокату. Как отмечает К. Гусефф, позиция В. Н. Коковцова вызвала недовольство крайне правых и их незамедлительную ответную реакцию. Во время переизбрания президиума
Эмигрантского комитета граф получил только 389 голосов, против 440, в среднем отданных за других кандидатов от Русского комитета. Причем сам В. Н. Коковцов прекрасно понимал, к чему приведет поддержка им Я. Л. Рубинштейна, но пойти на поводу у черносотенных кругов он не мог [Гусефф, 2014. С. 287]. Судя по обрывочным упоминаниям в документах, история имела дальнейшее продолжение. В марте 1938 г. руководство Объединения русских эмигрантских организаций интересовалось у В. А. Маклакова причинами ухода В. Н. Коковцова с поста председателя Русского комитета [Чему свидетели мы были, 1998. С. 43]. В. А. Маклаков ответил, что граф последовательно отстаивал свои взгляды. Он отказался участвовать в затеянной Е. К. Миллером агитации «на национальной и политической почве» и отмежевался от попыток диктовать условия Лиге Наций в условиях реформирования органов, занимающихся вопросами беженцев [Там же]. Дело в том, что вступление СССР в Лигу Наций в 1934 г. повлекло за собой постоянное вмешательство советской стороны в работу международного нансеновского бюро по вопросам беженцев. В. А. Маклаков и В. Н. Коковцов воспринимали это как данность, с которой нужно мириться. Они полагали, что нужно искать дипломатические рычаги внутри самой Лиги Наций, избегая прямых столкновений и конфликтов с представителями СССР. Правые же этого не желали и открыто заявляли об отказе идти на уступки. Полагаю, что В. Н. Коковцов, как человек с богатым бюрократическим опытом, которому в годы своей чиновничьей карьеры не раз приходилось лавировать между разными политическими силами, такую позицию принять не мог. К сожалению, имеющиеся в распоряжении материалы не позволяют в подробностях восстановить картину произошедшего конфликта, прояснить точку зрения самого графа. Остается до конца непонятным, вышел ли он из Русского комитета, окончательно ли сложил с себя обязанности его председателя. Все эти вопросы еще нуждаются в детальном изучении. Примечательно же то, что в возникшем споре моральную поддержку графу оказали либеральные круги эмиграции, его позицию и его поступок сочувственно воспринял тот же В. А. Маклаков. Конфликт консервативных эмигрантских сил с монархистом В. Н. Коковцовым на первый взгляд может показаться странным и экстраординарным. Но тут уместно вспомнить, что еще до революции он нередко подвергался нападкам крайне правых. Ситуация же 1936–1938 гг. свидетельствует о том, что на эмигрантскую почву были перенесены старые споры, уходившие корнями еще в дореволюционное прошлое.
Нельзя не сказать о роли В. Н. Коковцова в жизни русской православной общины. Граф был избран товарищем Председателя Приходского совета Александро-Невского кафедрального собора в Париже. Есть веские основания полагать, что именно он сумел отстоять храм от имущественных посягательств со стороны советского полпредства. В конце 1920-х гг. В. Н. Коковцов стал участником трудного церковного спора, возникшего в эмигрантских кругах. Еще в начале 1920-х гг. произошел раскол среди русского православного духовенства за рубежом по вопросу об отношении к Московскому патриархату и участию церкви в политической борьбе. Группа иерархов во главе с митрополитом Антонием выступила против митрополита Евлогия, которому в 1921 г. патриарх Тихон поручил управление всеми западноевропейскими русскими церквами на правах Епархиального Архиерея. В 1927 г. Архиерейский собор в Сремских Карловцах попытался отлучить Евлогия от должности и запретить ему служение. В ответ на это 6 марта 1927 г. в Париже было созвано чрезвычайное приходское собрание, одним из инициаторов которого был В. Н. Коковцов. Граф выступил с обширным докладом, выразив мнение, что заветы патриарха Тихона должны быть незыблемы для всей эмиграции. Главный из этих заветов состоит в том, чтобы не допускать политику под сень алтаря. Граф осудил карловацкие постановления, поскольку они, по его мнению, носили чисто политический характер. Он отрицал право Архиерейского синода отменять распоряжения патриарха Тихона, который утвердил митрополита Евлогия единственным представителем высшей церковной власти за рубежом. Граф В. Н. Коковцов смог убедить собрание в своей правоте, и в результате 245 человек против 32 проголосовали за сохранение канонического авторитета и канонической преемственности церковной власти. По итогам собрания был принят составленный графом проект обращения паствы к митрополиту с выражением верности.
Впоследствии на Епархиальном съезде граф вновь выступил с речью, в которой отрицал всякую возможность перенесения политических споров на церковную почву. По его предложению была принята резолюция, призывавшая карловчан отказаться от нападок на Евлогия и прекратить борьбу недопустимыми методами. Это решение еще больше повысило авторитет митрополита.
В 1930 г. В. Н. Коковцову вновь пришлось защищать его, но в этот раз уже от нападок из Советской России. В Париж из Москвы пришел указ местоблюстителя патриаршего престола митрополита Сергия, предписывавший Евлогию оставить свой пост и передать управление Западноевропейской епархией архиепископу Владимиру. И опять потребовалось собирать Епархиальный съезд, и вновь Коковцову выпало быть третейским судьей. В своем выступлении на съезде он доказывал, что распоряжение Сергия содержит в себе неразрешимые внутренние противоречия. Местоблюститель, увольняя митрополита Евлогия, превысил свою власть, так как последний был назначен пожизненно и мог быть лишен своей епархии только по церковному суду, который в настоящих условиях вообще невозможен. Граф выразил мнение мирян, согласно которому Евлогий не должен был исполнять указа из Москвы. «Раз нормальные сношения с высшей церковной властью в России стали невозможны, лучше впредь не иметь их вовсе», – подытожил свою мысль В. Н. Коковцов 8. Он предлагал сохранить каноническую связь с Москвой, но временно образовать автономный церковный округ. По итогам дискуссий митрополит Евлогий принял сан Экзарха Вселенского патриарха, но не порвал при этом связи с Русской православной церковью.
Важное место в своей бурной общественной деятельности В. Н. Коковцов отводил участию в судьбах бывших воспитанников Императорского Александровского лицея. По иронии судьбы, граф оказался последним его попечителем. Он стоял у истоков союза всех лицеистов, оказавшихся за рубежом. Идея объединить бывших выпускников лицея возникла в кругу русской эмиграции осенью 1920 г. Начало было положено стихийным созданием лицейских объединений в Париже, Берлине, Константинополе, Брюсселе и других центрах русского рассеяния. В Архиве Королевского музея армии и военной истории в Брюсселе сохранились фрагменты переписки известного русского дипломата Н. В. Чарыкова и В. Н. Коковцова, в которой они обсуждали организационные вопросы создания союза лицеистов. В сентябре 1920 г. граф писал Н. В. Чарыкову: «Я нахожу полезным, чтобы наша лицейская семья, обреченная волею судеб на быстрое вымирание, сохранила до ее полного исчезновения ту спайку, которою она отличалась в ту пору, когда молодые поколения лицеистов, сменявшие стариков, уходивших в вечность, старались воспринимать их заветы и передавать их в целости своим преемникам» 9. Иначе говоря, для него казалось важным сохранить не только социальную, но прежде всего духовную общность, обеспечить трансляцию культурного опыта от одного поколения к другому. Для русской эмиграции преемственность заключалась в ориентации на код дореволюционной культуры, но в то же время она была преобразована новым социальным опытом. Сбережение памяти о прошлом и привычных социальных связей было связано с необходимостью сохранения идентичности в условиях инонационального окружения [Ковалев, 2012а. С. 240–241]. Думается, что не случайно В. Н. Коковцов поддержал идею включить в будущий союз лиц, не успевших окончить лицей из-за войны и революции. Причем речь шла как о старшекурсниках, так и обо всех лицах, обучавшихся в лицее к моменту его закрытия, за исключением учащихся подготовительных классов. Важно было показать их принадлежность к лицейскому братству, неотъемлемым символом которого был А. С. Пушкин, воплощавший для эмигрантов всю русскую культурную и творческую традицию [Ковалев, 2012б. С. 126]. Но Н. В. Чарыков настороженно воспринял идею графа о широком членстве в будущем лицейском союзе. Свою позицию он доказывал тем, что многие пробыли в лицее совсем недолго, что в своем незрелом возрасте они не имели возможности в полной мере проникнуться его духом, но зато могли «подвергнуться разлагающему влиянию событий и ненормальных усло- вий жизни последнего времени» 10. Чтобы не допустить в сообщество чуждых лиц, Константинопольское отделение предлагало ввести баллотировку в местные лицейские союзы «для оценки права на звание лицеиста не с формальной, а с чисто внутренней стороны» 11. Этот пример хорошо демонстрирует не только сохранение корпоративного духа, присущего немалому числу лицеистов, но изначальную узость и замкнутость некоторых эмигрантских групп, перенесенных на зарубежную почву из России. Подобные примеры не способствовали единству диаспоры и нередко служили поводом для конфликтов, особенно в условиях смены социальных ролей, изменения статуса и т. д.
Переписка Н. В. Чарыкова и В. Н. Коковцова наглядно показывает, с какой тщательностью подходил граф к решению каждого из организационных вопросов. Так, он не согласился с идеей коллеги разместить лицейский центр в Константинополе, сочтя более приемлемым для этой цели Париж, в котором лицеистов было больше, нежели в любом другом месте. При этом он подчеркивал важность создания отделений союза в разных городах мира. Вопреки мнению Н. В. Чарыкова, граф советовал не учреждать суд чести для лицеистов: «Мы так разрознены, судьба так безжалостно разбросала нас по всему свету, что по необходимости нужно стремиться к тому, чтобы сохранять пока взаимную связь друг с другом и подготовиться к тому, еще не близкому моменту, когда суждено будет вернуться на родину и только там собрать осиротевшую лицейскую семью в одно целое и, просмотревши прошлое каждого из нас, сказать спокойно и убежденно, достоин ли он состоять в семье лицеистов и не отошел ли он заветов лицея» 12. С этим предложением бывший дипломат согласился.
Девятнадцатого октября 1920 г. в Париже состоялось первое собрание Объединения лицеистов за рубежом, председателем правления которого безоговорочно был избран В. Н. Коковцов. Вслед за традиционным лицейским обедом прошли импровизированный концерт русских романсов, чтение стихов и произнесение торжественной речи о необходимости сохранения лицейского духа в эмиграции [Некрасов, 1997. С. 17; Коковцов, 2011. С. 7]. В дальнейшем собрания проходили регулярно, правление объединения нередко созывалось в просторной парижской квартире графа на авеню Марсо. Эти собрания носили не столько официальный, сколько дружеский характер. По воспоминанию одного из участников, лицеисты «с интересом слушали увлекательные воспоминания о прошлом своего маститого председателя» 13. В. Н. Коковцов регулярно вносил средства в лицейскую кассу взаимопомощи, посещал одиноких и больных лицеистов, оказывал им материальную поддержку. О том, насколько близок был графу лицей, свидетельствует посещение им за время своего пребывания в Париже всех заупокойных служб по всем скончавшимся за это время лицеистам.
В брюссельском архиве сохранилось немало писем, раскрывающих роль объединения в социальной поддержке представителей эмиграции. Упомянем послание, направленное В. Н. Коковцову в ноябре 1936 г. от имени Объединения бывших воспитанников Императорского Александровского лицея на Юге Франции. В нем сообщалось о трагическом положении бывшего депутата Государственной Думы Александра Степановича Гижицкого (1869–1938) 14. До революции он был известен не только как политический деятель, но и как убежденный пропагандист сокольского движения, покровитель полярных исследований и авиации. В годы Первой мировой войны он стал уполномоченным Красного Креста. В годы Гражданской войны сначала поддерживал гетмана П. П. Скоропадского, а затем примкнул к Белому движению. В 1919 г. он эмигрировал. Некоторое время А. С. Гижицкий жил в Чехословакии, где активно участвовал в создании «Русского сокола» в Праге. Затем он уехал во Францию и поселился в Ницце, продолжал энергичную общественную работу в сокольском движении и одновременно курировал объединение бывших лицеистов на юге Франции. Он был вынужден зарабатывать на жизнь, трудясь в одной из ниццских комиссионных контор. Его здоровье ухудшалось, требовались консультации с врачом и клиническое лечение, которое могло быть обеспечено лишь в Париже. Этому вопросу и было посвящено письмо, адресованное графу. Лицеисты просили В. Н. Коковцова помочь А. С. Гижицкому материально, зная его «отзывчивость к насущным нуждам наших соотечественников и, в частности, к бывшим Вашим сослуживцам и однокашникам». Однако касса парижского объединения оказалась в тот момент пуста. В итоге, уже в январе 1936 г. пришлось искать деньги в виде пожертвований среди лицеистов на юге Франции 15. Не будем забывать, что мировой экономический кризис сильно подорвал и без того скудное материальное положение русской диаспоры. Поэтому случаи отказа в помощи были не редкостью. В июле 1938 г. к В. Н. Коковцову из Ниццы обращались по поводу судьбы лицеиста Бориса Васильевича Балашева (1886– 1967) 16. Он был вынужден перебиваться случайными заработками, вовремя не переоформил удостоверение личности и оказался тем самым на нелегальном положении. В итоге ему был выписан большой штраф в 500 франков, который Б. В. Балашев оказался не в состоянии уплатить. Его товарищи сумели собрать часть суммы, а в погашении оставшегося долга просили помочь правление объединения. К сожалению, документы не всегда дают возможность проследить судьбу таких прошений, так же как невозможно оценить, какими же средствами располагал В. Н. Коковцов и возглавляемая им организация.
Но не только социальная и моральная поддержка входила в задачи Объединения лицеистов за рубежом. Не менее важным было участие в сохранение исторической памяти и культурного наследия. Так, стараниями В. Н. Коковцова в 1929 г. в Париже была издана «Памятная книжка лицеистов за рубежом», составленная по плану последней дореволюционной памятной книжки 1911 г. [Памятная книжка…, 1929]. Граф написал для нее трогательные предисловия памяти Николая II и Марии Федоровны [Коковцов, 1929а. С. 3; 1929б]. Вместе с другими лицеистами он подготовил очерк о последнем годе жизни лицея от Февральской революции и до его закрытия весной 1918 г., воспринятого как трагическая ги- бель «одного из культурнейших учебных заведений России с его славным и блестящим прошлым» [Конец Императорского Александровского лицея, 1929. С. 36]. Именно В. Н. Коковцов предложил основать лицейский архив. Начало ему было положено в 1926 г., когда А. Ф. Гамм передал объединению юбилейные издания в честь 100-летия лицея. За этим даром последовали и другие. Собранный материал дал основания для утверждения 19 октября 1935 г. положения о Музейно-исторической комиссии при лицейском объединении, которая должна была курировать архив и подготовить создание музея 17.
Но этим планам вскоре потребовалась серьезная корректировка. Осенью 1936 г. комиссия в лице председателя Д. И. Ознобишина и секретаря Н. Н. Флиге начала поиски нового места хранения для лицейского архива. Эмигрантов пугала политика Народного фронта во Франции и сближение республики с СССР. Среди многих бытовало мнение, что архив может быть конфискован и передан советской стороне. Видимо, будущее архива давно волновало и самого В. Н. Коковцова. По материалам рукописного собрания Славянской библиотеки в Праге известно, что он с 1931 г. состоял в переписке с Русским заграничным историческим архивом (РЗИА), действовавшим в чехословацкой столице и позиционировавшим себя как главный центр собирания эмигрантских документов [Русский заграничный исторический архив…, 2011. С. 333]. Очевидно, что В. Н. Коковцов передавал некоторые свои материалы в Прагу. Так, в Славянской библиотеке до сих пор хранятся публикации графа 1920–1930-х гг. на французском языке со штампами РЗИА. Русские историки и архивисты проявляли большой интерес к документам графа. Например, в феврале 1934 г. А. Ф. Изюмов делал доклад о его воспоминаниях на заседании ученой комиссии РЗИА [Там же. С. 143]. Безусловно, в Праге желали бы получить и архив самого графа, и лицейского объединения. Однако как не сильны были эти надежды и желания, в середине 1930-х гг. такая передача вряд ли могла состояться. Причина имела явный политический характер. Чехословакия, как и Франция, начала сближение с СССР и в
1935 г. подписала с ним договор о взаимопомощи. Официальное отношение к эмиграции со стороны правительственных кругов изменилось, теперь от нее явно пытались дистанцироваться [Ковалев, 2012а. С. 123–124]. Думаю, что и В. Н. Коковцов, и его соратники это понимали, поэтому пражский вариант не рассматривали, несмотря на несомненный авторитет РЗИА. Тогда бывшие лицеисты обратились с просьбой о передаче коллекции на временное хранение в Королевский музей армии в Брюсселе, где в то время уже находились архивы нескольких русских полковых объединений. Выбор был не случаен, ввиду того, что бельгийский королевский дом покровительственно относился к русской монархической эмиграции. Хлопоты увенчались успехом, и 5 апреля 1937 г. граф В. Н. Коковцов подписал совместно с главным хранителем Брюссельского музея доктором Луи Леконтом (Louis Leconte) договор о сдаче на 10-летний срок лицейских реликвий. Сам граф передал на хранение памятные книжки лицея, собственноручный проект поздравительного адреса по случаю его 100-летия, телеграмму императрицы Марии Федоровны, копии писем дипломата Н. В. Чарыкова и другие материалы. В октябре 1937 г. он дополнительно передал два тома своих опубликованных воспоминаний с дарственной надписью, рукопись мемуаров «Обрывки воспоминаний из моего детства и лицейской поры», о которой еще будет сказано специально, речь памяти императрицы Марии Федоровны и др. Затем последовали редкие юбилейные издания, фотографии, документы 18.
В. Н. Коковцов на протяжении всей жизни оставался убежденным монархистом. Граф стал одним из основателей учрежденного в конце 1922 г. по инициативе П. М. Кауфман-Туркестанского Союза ревнителей памяти Императора Николая II, главной целью которого создатели объявили «опровержение клеветнических нападок на венценосного страдальца и энергичная борьба со всяким искажением личности и деяний Государя, с собиранием материалов, необходимых для правильного освещения светлого образа Царя-мученика». После кончины П. М. Кауфман-Туркестанского в 1926 г. В. Н. Коковцов стал председателем и занимал этот пост до
1936 г., когда по состоянию здоровью попросился в отставку. За десять лет своего участия в деятельности Союза граф не раз выступал с докладами, в которых пытался проанализировать недавнее прошлое, пытался понять, возможен ли был иной вариант развития событий 19. Не случайно, что тема одного из его последних докладов 1936 г. формулировалась в виде по сей день острого и нерешенного вопроса: «Была ли возможность спасения царской семьи в условиях 1917–1918 годов?».
Но при своих монархических взглядах и искренней преданности последнему императору, В. Н. Коковцов скептически относился к ветви Кирилловичей и ее главе, великому князю Кириллу Владимировичу, провозгласившему себя в 1924 г. Императором Всероссийским. Публично граф никогда не высказывался на тему престолонаследия, о его взглядах на нее свидетельствуют лишь обрывочные сведения из источников. В брюссельском архиве сохранился примечательный документ – протокол заседания объединения лицеистов, состоявшегося 12 февраля 1938 г. в парижской квартире графа В. Н. Коковцова 20. На этой встрече, среди прочих вопросов, была затронута тема присутствия лицеистов на приеме в честь княгини Киры Кирилловны 3 апреля 1938 г. по случаю ее помолвки с немецким принцем. А. С. Хрипунов и С. С. Воейков полагали, что объединение должно принять участие в нем наряду с другими русскими организациями. Это предложение вызвало оживленную дискуссию, в которую включились все без исключения присутствующие. В результате большинство высказалось против участия лицейского объединения в означенном приеме. Оно настаивало, что мероприятие носит откровенно политический характер, и его организаторы не скрывают этого. Поэтому присутствие представителей лицейского объединения было бы крайне нежелательным. В протокол было внесено развернутое обоснование этой позиции: «Между тем, за все время почти 20-летнего своего существования среди русской эмиграции вне пределов нашей родины, Лицейское Объединение никогда не принимало какого-либо участия в таких собраниях, которые выхо- дили за пределы прямой задачи, усвоенной нами с самого начала нашей жизни во Франции, с 1919 года. Эта задача ограничивалась исключительно охранением памяти воспитавшего нас Лицея и посильным оказанием материальной и моральной помощи нашим товарищам, находящимся в трудных условиях жизни. Объединение всегда уклонялось поэтому от всяких выступлений политического или общественного характера, чуждого Лицею и непосредственно связанным с ним событий и интересов» 21. В итоге семью голосами, в числе которых был и голос В. Н. Коковцова, против трех было принято решение отказаться от участия в приеме в честь княгини Киры Кирилловны. Однако членам объединения в частном порядке его посетить не воспрещалось. Конечно, можно увидеть в этом акте простое желание дистанцироваться от текущей политики. Однако находим в архиве и другой протокол – уже от 12 декабря 1938 г. 22 Заседание созвал сам В. Н. Коковцов и посвятил его одному вопросу – участию объединения в приеме в честь великого князя Владимира Кирилловича 18 декабря. В этот раз на имя графа поступило 16 обращений от лицеистов, проживавших в Париже и Риме, в которых они высказывались за необходимость официального присутствия на мероприятии. Казалось, в прошлый раз аналогичный казус был успешно разрешен, но теперь полученные письма показали графу, что внутри союза существуют и иные мнения, с которыми придется считаться. Но он понимал, что этому мероприятию, в отличие от приема в честь бракосочетания Киры Кирилловны, будет придан еще больший политический характер. В. Н. Коковцов попросил каждого из присутствующих высказаться по сложившейся ситуации и лишь затем пообещал выразить свое личное мнение. В итоге все присутствующие раскололись на две группы. Меньшинство полагало необходимым принять участие в приеме в честь великого князя, «ввиду того особливого положения, которое выпало на его долю в связи с кончиною его родителя В[еликого] Кн[язя] Кирилла Владимировича и придать этому участию характер внимания» 23. Боль-
Ibid.
шинство же вновь высказалось против подобной инициативы и вновь выразило убеждение о нежелательности участия в политических акциях. К этому же мнению примкнул сам В. Н. Коковцов. По результатам обсуждения было принято решение не участвовать в приеме, но вновь разрешить желающим лицеистам посетить его самостоятельно. Таким образом, граф четко обозначил и свою позицию, и позицию возглавляемого им объединения. Насколько известно, на официальных встречах с представителями Кирилловичей в годы эмиграции он не бывал. В феврале 1939 г. В. А. Маклаков не без иронии писал в Лондон бывшему послу Е. В. Саблину об отказе многих эмигрантов пойти на чествование Владимира Кирилловича: «К ним, например, принадлежали не только Ваш покорный слуга, но и такие правые люди, как Коковцов» [Чему свидетели мы были…, 1998. С. 185].
На склоне лет В. Н. Коковцов пытался осмыслить свой жизненный опыт как человека и как государственного деятеля. В 1933 г. в Париже были опубликованы его воспоминания «Из моего прошлого», в которых он ярко отобразил главнейшие события истории России начала XX в. [Коковцов, 1933]. Одним из побудительных мотивов к их написанию мог послужить выход в свет мемуаров С. Ю. Витте, которые почти одновременно в начале 1920-х гг. были изданы в Германии, США и Советской России [Ананьич, Ганелин, 1963. С. 301–305]. В них бывший глава правительства, как хорошо известно, дал немало нелицеприятных оценок своим современникам и результатам их работы. Удостоился критики и В. Н. Коковцов, названный человеком, пропитанным «чиновничьей ревностью к своей власти», «с крайне узким умом, совершенно чиновником, не имеющим никаких способностей схватывать финансовые настроения», а кроме того, карьеристом, не останавливающимся перед интригами, ложью и клеветой для достижения личных целей [Витте, 1922. С. 332–260]. Граф вынужден был оправдываться, стараясь максимально подробно рассказать о своей государственной деятельности. Примечательно, но он избежал укоров и нелицеприятных характеристик в адрес С. Ю. Витте и довольно ровно, объективно осветил его роль в политической жизни России. По отзыву П. Н. Милюкова, которого трудно упрекнуть в симпатиях к царским бюрократам, воспоминания графа представ- ляли собой исторический источник первостепенной важности: «За В. Н. Коковцовым имеются подлинные заслуги перед Россией, и его воспоминания убедительно доказывают это. Субъективность Коковцова – не его личная, это – субъективность его круга и его положения. Он остается ей верен и теперь. То, что произошло, не побуждает его к пересмотру старых верований. Зато его воспоминания и не окрашены позднейшими психологическими переживаниями» 24. Появление в печати мемуаров графа нашло восторженные отклики и во французской среде. Прочитавший их журналист Стефан Лозанн (Stéphane Lauzanne) на страницах газеты «Le Matin» писал: «Быть может, если бы он находился у власти в трагические июльские дни и в особенности в первые два года войны, события приняли бы иной оборот» 25. В своих мемуарах В. Н. Коковцов охватил лишь события 1903–1919 гг., начиная с отставки С. Ю. Витте с поста главы финансового ведомства и до своей эмиграции из России. Воспоминания имели большой успех в мире. И уже в 1935 г. Гуверов-ский институт по инициативе профессора Гарольда Фишера (Harold Fisher) издал их английский перевод [Kokovtsov, 1935].
В 1934 г. члены друзья и коллеги обратились к В. Н. Коковцову с просьбой написать воспоминания о годах детства и юности и отразить в них время учебы в Александровском лицее. К тому времени граф был едва ли не самым старым из остававшихся в живых лицеистов. Он обещал обдумать эту идею, несмотря на некоторые явные трудности. В. Н. Коковцов никогда не вел дневниковых записей, за исключением, разве что периода 1904–1918 г., когда он делал пометки в ежедневном календаре. Именно они помогли ему написать мемуары «Из моего прошлого» [Коковцов, 2011. С. 27–28]. Теперь от него требовалось рассказать о событиях более чем полувековой давности, которые уже ушли из живой памяти и, по словам графа, «подернулись слишком густою дымкою, заслоненные разнообразными впечатлениями последующих лет, полных немалых переживаний, а за длинный ряд лет – и большого нервного напряжения, тревог и испытаний» [Там же. С. 28].
Но постепенно желание рассказать о своем детстве и юности овладело графом. В своих мыслях и раздумьях он все больше уходил в глубины прошлого. В его мыслях все чаще возникали образы семьи, близких, дома: «Они стали постепенно выступать из тени, казалось, забытого времени, все ярче и ярче, освежая в памяти самую дорогую и ничем незаменимую пору моего счастливого раннего детства, и привели меня к моему поступлению в Лицей, а потом, незаметно, и во многое, что связалось в памяти с лицейскою порою. Я скажу в пояснение этого явления, которое может показаться странным или даже, может быть, просто искусственным, что мое раннее детство никогда не выходило из моей памяти. Оно положило твердую, неизгладимую основу всей жизни моей семьи, дружной, сплоченной, пережившей все многочисленные изменения, ниспосланные судьбою и дошедшей сохраненной в моей памяти до настоящих дней» [Там же. С. 28–29]. Итак, в сознании старого графа возник архетип Дома, который рассматривается как нулевая точка в системе координат в мире, как один из ключевых символов культуры. Именно Дом обеспечивает сбережение и передачу опыта предшествующих поколений, обычаев, традиций [Магомедова, 2000. С. 16–17]. Эмигрант же – это человек без Дома. Роскошная квартира в центре Парижа не могла заменить его старому графу. Отсюда его ностальгия по родительскому имению в Новгородской губернии, тоска по безвозвратно ушедшему Петербургу его детства и юности. Отсюда его пронзительные воспоминания о своих близких, о семье, которая была разрушена историческими потрясениями. К слову, он глубоко переживал за жизнь трех своих сестер, оставшихся в Советской России, и с горечью писал в 1933 г., что «вывезти их оттуда немыслимо, потому что всякая попытка к этому только ухудшит их положение, потому что мое имя все еще не забыто» 26. Впрочем, эти особенности были, в целом, характерны для культуры памяти русской эмиграции с ее ностальгией по ушедшему счастливому времени, уюту, семейному быту и потерянному Дому [Мегре-лишвили, 2010. С. 356]. С одной стороны, воспоминания навевали В. Н. Коковцову го- рестные мысли, но, с другой стороны, в прошлом граф пытался найти потерянную гармонию. В итоге, он взялся за перо и к 1937 г. завершил работу над рукописью, озаглавленной «Обрывки воспоминаний из моего детства и лицейской поры».
Его мемуары хронологически охватывают период 1860–1870-х гг., однако граф коснулся в них и начала своей бюрократической карьеры, кратко рассказал о службе в департаменте Министерства юстиции в 1873–1879 гг., о работе в Главном тюремном управлении Министерства внутренних дел в 1879–1890 гг., о переходе в хозяйственный комитет Государственной канцелярии в 1890 г. и т. д. Мемуары графа представляют несомненный научный интерес, хотя, следует признать, что в них не содержится исторических сенсаций. Они примечательны в первую очередь как культурный текст, ибо хорошо отражают жизненные ориентиры старого русского бюрократа, пережившего экзистенциальную трагедию изгнания и пытающегося в прошлом найти моральную опору. Воспоминания насыщенны описаниями повседневной жизни, ценностей, мировоззрения российского дворянства и бюрократии, рассказами о педагогических практиках и просветительских учреждениях, о бытовой культуре лицеистов и студентов. Кроме того, в них содержится немало интересных сведений и суждений о политических и общественных деятелях, окружавших графа: о К. К. Гроте, А. Ф. Кони, Ф. А. Ооме, Э. Д. Плеске, Д. М. Сольском, Н. С. Таганцеве, Э. В. Фрише, Н. В. Шидловском и др.
Пока сложно с уверенностью сказать, имелись ли у В. Н. Коковцова конкретные издательские планы. Однако доподлинно известно, что граф познакомил с рукописью мемуаров представителей лицейского объединения в Париже. Упоминания об этом содержит письмо от 19 апреля 1938 г., в котором лицеисты поздравляли графа с днем рождения: «Пользуясь этим днем, мы просим Вас принять нашу глубокую благодарность за Ваши воспоминания о Лицейских годах, за этот новый огромный вклад в лицейскую семью после столь многих других. На наших дружеских собраниях и в этих записках Вы с такой любовью всегда говорите о нашем дорогом Лицее, что работа над этими записками наверное была для Вас отрадой в нашей великой невзгоде, унося Ваши мысли в далекие светлые времена. Мы все прочли с благоговением эти записки, и они воскресили наши лицейские годы и напомнили нам все, чем мы обязаны нашему дорогому Лицею. Жизнь в эмиграции нравственно становится с каждым днем тяжелее, и еще раз сердечное Вам спасибо за тот светлый луч, который Вы этими записками бросили в тьму теперешней жизни лицейской семьи» 27.
К сожалению, при жизни В. Н. Коковцова эти мемуары не были опубликованы, чему, вероятно, помешала начавшаяся Вторая мировая война. Авторские рукописи оказались в собрании Королевского музея армии в Брюсселе и на долгие годы были забыты. Если исследователям были хорошо известны мемуары «Из моего прошлого», то о существовании «Обрывков воспоминаний» никто не догадывался. Лишь в 2007 г. петербургский исследователь С. М. Некрасов опубликовал их фрагмент на основе экземпляра, сохранившегося в личном архиве правнука В. Н. Коковцова Патрика де Флиге (Франция) [Коковцов, 2007]. Полная версия мемуаров В. Н. Коковцова под оригинальным авторским названием была подготовлена к публикации лишь в 2011 г. усилиями ученых Саратовского государственного технического университета им. Ю. А. Гагарина и Дома Русского Зарубежья им. А. И. Солженицына. Идея этого издания нашла поддержку у руководства Королевского музея армии и военной истории в лице директора доктора Доминика Хансона (Dominique Hanson). При участии бельгийского ученого Н. Белявского было произведено копирование рукописи. За основу был взят машинописный вариант воспоминаний, который имеет незначительную рукописную правку, сделанную самим В. Н. Коковцовым 28. Черновые версии мемуаров и подготовительные материалы к ним не сохранились. Очевидно, что граф передал в Брюссель лишь окончательные экземпляры своего труда. Правда, в фонде имеется также рукопись воспоминаний объемом в 242 страницы, датированная 28 мая 1937 г. 29 Появление в печати мемуаров вызвало большой интерес в среде ученых и любителей истории [Мамонов, 2015].
К сожалению, материалы бельгийского архива мало говорят о последних годах жизни графа. Причины этого вполне понятны. Начавшаяся Вторая мировая война привела к оккупации и Бельгии, и Франции, нарушила привычные коммуникации и окончательно развела русских эмигрантов по разным лагерям. Увы, о его отношении к Германии, к развитию нацизма в Европе, к начавшейся войне ничего не известно, ибо этого пока не позволяют прояснить сохранившиеся архивные документы. Правда, в лицейском фонде имеется письмо, датированное 27 октября 1938 г., от имени Национального объединения русских писателей и журналистов во Франции за подписями И. И. Тхоржевского и Л. Д. Любимова, бывших лицеистов. Его авторы цитируют обращение Русских национальных организаций в Бельгии ко всем эмигрантам, в котором давалась восторженная оценка Мюнхенского соглашения и содержалась злобная критика эмигрантских либералов: «Мы должны отметить возмутительную роль, сыгранную издававшейся на русском языке газетой “Последние новости”, которая из чувства зоологической ненависти к Германии пыталась навязать взгляд, что русская эмиграция жаждет войны и призывала западные державы к открытию военных действий» 30. Авторы письма предлагали В. Н. Коковцову присоединиться к этому воззванию. Но граф, по всей видимости, этого не сделал.
Безусловно, В. Н. Коковцов, как человек мыслящий, думающий, с богатым жизненным опытом, не мог не обращать внимания на происходящие вокруг события, не мог не думать о них. Однако складывается ощущение, что в последние годы жизни он все больше погружался в ностальгические переживания, которые уносили его прочь от суровой и жестокой действительности. Показательно его письмо Игорю Павловичу Митрофанову 1940 г., в котором граф благодарил его за присылку составленной лицейской библиографии: «…Я уделил значительную часть моего вечера на то, чтобы прочитать этот новый Ваш вклад в дело сохранения Лицея и памяти о нем от беспощадного времени наших дней, которое так мало склонно беречь теперь наше лицейское прошлое, и так безучастно проходит мимо того, что было… Ваша Библиография дала мне много минут настоящего морального отдыха от моих повседневных забот, от моего глубокого разочарования, ставшего моим уделом под конец моей жизни… Благодаря Вам, я ушел на целый час от этого тягостного настроения и погрузился в светлое прошлое Лицея и, незаметно, пережил опять и опять то, что глубоко сложено в моей душе с первой минуты, – тому прошло уже ровно 3/4 века – когда я пришел на вступительные экзамены в Декабре 1866 года и до той минуты, когда я последний раз ушел из стен Лицея и видел у входной двери сорванный Императорский герб, а на дворе нагло и насмешливо провожали последнего Попечителя, – обнаглевшие дядьки» 31. В конце своего письма В. Н. Коковцов выразил мысль, что труд И. П. Митрофанова непременно нужно отправить в Королевский музей армии и военной истории и сохранять там вплоть до возвращения эмиграции домой: «Пусть этот экземпляр, предназначенный Вами мне, как и Ваше письмо от 22-го Февраля, останется в Брюссельском Музее и вернется домой, если собранному в нем Лицейскому материалу суждено будет найти место своего окончательного упокоения в каком-нибудь русском историческом хранилище» 32. Обратим внимание на дату письма – 27 февр аля 1940 г. Еще продолжалась «Странная война» (Drôle de guerre), и исход ее многим современникам был непонятен. Впрочем, дальнейшее развитие событий хорошо известно. В мае германская армия перейдет в стремительное наступление. Немецкое вторжение застало графа В. Н. Коковцова в Париже. У него уже не было сил перебраться на юг Франции, где было безопаснее, и куда устремились многие его соотечественники. Оккупационные власти сделали ставку на русских коллаборационистов из числа лиц, образовавших Управление по делам русской эмиграции и поставивших под неусыпный контроль жизнь диаспоры [Ковалев, 2006. С. 117].
В конце 1942 г. здоровье графа резко ухудшилось, и 29 января 1943 г. он ушел из жизни. О смерти его предельно кратко сообщила коллаборационистская газета «Парижский вестник», оставшаяся в годы войны единственным русским печатным органом во
Франции (Парижский вестник. 1943. № 33. 30 янв. С. 3). Кажется, смерть В. Н. Коковцова осталась почти незамеченной. Местом его последнего пристанища стало знаменитое русское кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. В надгробной речи эмигрант А. А. Шумихер так сказал о своем покойном друге: «С ним ушел в могилу человек кристаллической чистоты и непоколебимого исполнения своего долга во всех формах и условиях, в каких он был возложен на него за сорок лет его упорного труда. Этому долгу перед Родиной служил он все свою жизнь, отдавая себя целиком ему одному, до самого последнего дня, когда он был силою вырван из его рук… Пусть найдет в чужой земле мир и вечное упокоение этот прекрасный человек, который не знал уступок велениям своей совести» 33.
Подытоживая, можно с уверенностью сказать, что архивные материалы Королевского музея армии и военной истории в Брюсселе вносят много новых сведений в биографию В. Н. Коковцова, раскрывают неизвестные страницы его жизни на фоне истории русской эмиграции 1920–1940-х гг. Конечно, эти материалы далеко не полны. Как уже говорилось, они освещают только некоторые стороны жизни и деятельности графа на чужбине. Увы, имеющиеся в музее документы не дают ответов на вопросы о семье В. Н. Коковцова в эмиграции, о взаимоотношениях графа с видными представителями русской диаспоры, например, с тем же В. А. Маклаковым, о его банковской работе в начале 1920-х гг., о взглядах на европейскую политику в грозовые 1930-е гг. Но, вне всякого сомнения, брюссельские материалы закладывают прочный фундамент для дальнейшего изучения жизненного пути графа В. Н. Коковцова, ставят новый круг вопросов, ответы на которые могут быть получены в ходе дальнейших архивных изысканий.
Список литературы Граф Владимир Николаевич Коковцов в эмиграции (по новым архивным материалам)
- Ананьич Б. В. Из зарубежного архива П. П. Мигулина (В. Н. Коковцов и П. П. Мигулин в эмиграции)//Scripta Gregoriana: Сб. в честь семидесятилетия академика Г. М. Бонгард-Левина. М., 2003. С. 369-373.
- Musée Royal de l'Armée et de l'Histoire Militaire. Dépôt «Lycée Alexandre». XIX-24 (a).
- Ананьич Б. В., Ганелин Р. Ш. Опыт критики мемуаров С. Ю. Витте (в связи с его публицистической деятельностью в 1907-1915 гг.)//Вопросы историографии и источниковедения истории СССР. М.; Л., 1963. С. 298-374.
- Архив Императорского Александровского Лицея, временно хранящийся в Королевском военном музее в Брюсселе/Сост. Н. Н. Флиге и И. П. Митрофанов. Париж: Изд. Лицейского объединения во Франции, 1937. 48 с.
- Белова Е. И., Седова Е. Е. Документы «Объединенной казачьей станицы в Бельгии» в Королевском музее армии и военной истории в Брюсселе//Отечественные архивы. 2009. № 6. С. 75-81.
- Бочарова З. С. Правовое положение русских беженцев на Западе в 1920-1930-е годы//История: Приложение к газете «Первое сентября». 2002. 8-15 янв. С. 1-12.
- Витте С. Ю. Воспоминания: Царствование Николая II. Берлин: Слово, 1922. Т. 1. 512 с.
- Гусефф К. Русская эмиграция во Франции: социальная история (1920-1939 годы). М.: Новое лит. обозрение, 2014. 328 с.
- Ковалев М. В. «Мы все с генералом де Голлем!». Русские герои французского Сопротивления//Родина. 2006. № 12. С. 115-122.
- Ковалев М. В. Русские историки-эмигранты в Праге (1920-1940 гг.). Саратов, 2012а. 408 с.
- Ковалев М. В. Между политикой и идеологией: метаморфозы исторической памяти русской эмиграции 1920-1940 годов//Россия XXI. 2012б. № 3. С. 120-147.
- Памяти Государя Императора Николая II//Памятная книжка лицеистов за рубежом. 1811-1929. Париж, 1929а. С. 3.
- Коковцов В. Н. Памяти Государыни Императрицы Марии Федоровны//Памятная книжка лицеистов за рубежом. 1811-1929. Париж, 1929б. С. 5-7.
- Коковцов В. Н. Из моего прошлого. Воспоминания 1903-1919. Париж: Изд. журнала «Иллюстрированная Россия», 1933. Т. 1. 504 с.; Т. 2. 504 с.
- Коковцов В. Н. Обрывки воспоминаний из моего детства и лицейской поры//Некрасов С. М. «Куда бы нас ни бросила судьбина…». Выпускники Императорского Александровского Лицея в эмиграции. М., 2007. С. 125-159.
- Коковцов В. Н. Обрывки воспоминаний из моего детства и лицейской поры/Сост. М. А. Васильева, М. В. Ковалев; коммент. М. В. Ковалева. М.: Русский путь, 2011. 288 с.
- Конец Императорского Александровского Лицея//Памятная книжка лицеистов за рубежом. 1811-1929. Париж, 1929. С. 22-36.
- Магомедова А. А. Феномен повседневности (социально-философский анализ): Автореф. дис. … канд. филос. наук. СПб., 2000. 20 с.
- Мамонов А. В. «Двери в далекое теперь прошлое»: «Обрывки воспоминаний» графа В. Н. Коковцова//Российская история. 2015. № 1. С. 192-202.
- Мамонтова Е. Опись фонда Ассоциации бывших воспитанников Императорского Александровского лицея, хранящегося в Королевском музее армии и военной истории Бельгии. Брюссель: Фонд сохранения русского наследия в Европе, 2001. 194 с.
- Мегрелишвили Т. Своеобразие языка моделирования мемуарного пространства: «Мой ларец» М. Н. Германовой//«Погасло дневное светило…» Руската литературна емиграция в Бьлгария 1919-1944. София, 2010. С. 349-366.
- Некрасов С. М. Лицей после лицея. М.: Русский путь, 1997. 112 с.
- Памятная книжка лицеистов за рубежом. 1811-1929. Париж: Изд. Объединения бывших воспитанников Императорского Александровского лицея во Франции, 1929. 176 с.
- Парижский вестник. 1943. № 33. 30 янв.
- Русские беженцы: проблемы расселения, возвращения на Родину, урегулирования правового положения (1920-1930-е годы): Сборник документов и материалов/Сост. З. С. Бочарова. М.: РОССПЭН, 2004. 400 с.
- Русский заграничный исторический архив в Праге -документация: каталог собраний документов, хранящихся в пражской Славянской библиотеке и в Государственном архиве Российской Федерации/Сост. Л. Бабка, А. Копршивова, Л. Петрушева. Прага: Национальная библиотека Чешской республики, 2011. 568 с.
- Саломатина С. А. Е. М. Эпштейн и его книга о российских дореволюционных банках /Российские коммерческие банки (1864-1914 гг.). Роль в экономическом развитии России и их национализация. М., 2011. С. 11-33.
- Соколова Е. А. Общественная деятельность В. Н. Коковцова в эмиграции//Изв. Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 2008.
- Patrimoine Russe. Bruxelles, 2002. № 1. № 49. С. 188-192. Р. 47-79.
- Соколова Е. А., Алексеев И. С. Архив Императорского Александровского лицея Королевского музея армии и военной истории Бельгии как источник по изучению деятельности русской эмиграции//Вопросы гуманитарных наук. 2010а. № 1. С. 41-44.
- Соколова Е. А., Алексеев И. С. Советская промышленность в оценке представителя русской эмиграции В. Н. Коковцова//Вопросы гуманитарных наук. 2010б. №5. С. 26-28.
- Соколова Е. А., Плешаков А. Н. Новая экономическая политика большевиков в оценке представителя русской эмиграции В. Н. Коковцова//Исторические науки. 2010. № 5. С. 61-64.
- Чему свидетели мы были… Переписка бывших царских дипломатов. 1934-1940: Сб. док. М.: ГЕЯ, 1998. Кн. 2: 1938-1940. 606 c.
- Bieliavsky N. Introduction aux archives du Régiment de Petrograd de la Garde Impériale Russe//Militaria Belgica, 2001. Bruxelles, 2001. P. 25-68.
- Bieliavsky N. Classification des archives places an depot ou données au Musée Royal de l'Armée et d'Histoire Militaire par des personnes ayant émigré de Russie entre 1917 et 1940//Kokovtsov V. Out of my past: The memoires of count Kokovtsov, Russian minister of finance, 1904-1914, chairman of the Council of ministers, 1911-1914. Stanford -London: Stanford Univ. Press; H. Milford, Oxford Univ. Press, 1935. 615 p.
- Kokovtzoff W. Cinq ans de dictature bolchévique: Le bilan économique. Paris: P. Renouard, 1923. 32 p.
- Kokovtzoff W. Sixième année de dictature bolchévique. Paris: P. Renouard, 1924а. 31 p.
- Kokovtzoff W. En Russie: La terre aux pay-sans. Paris: P. Renouard, 1924б. 33 p.
- Kokovtzoff W. Une nouvelle famine en Russie. Paris: s. é., 1924в. 34 p.
- Kokovtzoff W. Le septennat de la dictature bolchévique. Paris: P. Renouard, 1925. 48 p.
- Kokovtzoff W. Les dettes russes envers la France et les Français: Les dettes russes et la situation financière de l'URSS. Paris: J. Dumoulin, 1926. 23 p.
- Kokovtzoff W. Le bolchevisme à l'oeuvre: la ruine morale et économique dans le pays des soviets. Paris: M. Giard, 1931. 378 p.