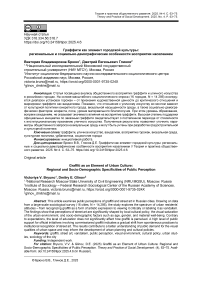Граффити как элемент городской культуры: региональные и социально-демографические особенности восприятия населением
Автор: Брюно В.В., Глинов Д.Е.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 4, 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу общественного восприятия граффити и уличного искусства в российских городах. На основе масштабного социологического опроса (16 городов, N = 14 286) исследуется диапазон установок горожан - от признания художественной ценности до критического отношения и маркировки граффити как вандализма. Показано, что отношение к уличному искусству во многом зависит от культурной политики конкретного города, визуальной насыщенности среды, а также социально-демографических факторов: возраста, пола, уровня материального благополучия. При этом уровень образования, вопреки ожиданиям, не оказывает значимого влияния на восприятие граффити. Высокая степень поддержки официальных инициатив по заказным граффити свидетельствует о постепенном переходе от стихийности к институциональному признанию уличного искусства. Полученные результаты позволяют уточнить параметры общественного запроса на визуальную среду и могут быть учтены при разработке градостроительной и культурной политики.
Граффити, уличное искусство, вандализм, восприятие горожан, визуальная среда, культурная политика, урбанистика, социология города
Короткий адрес: https://sciup.org/149148310
IDR: 149148310 | УДК: 316.334.56:316.7 | DOI: 10.24158/tipor.2025.4.6
Текст научной статьи Граффити как элемент городской культуры: региональные и социально-демографические особенности восприятия населением
,
1,2National Research Moscow State University of Civil Engineering (NRU MGSU), Moscow, Russia 1Institute of Sociology – Federal Research Sociological Center of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia, ,
Введение . Граффити и уличное искусство давно стали частью городской визуальной среды – узнаваемой, но не всегда принятой. Как форма вмешательства в облик города они остаются одними из самых спорных и неоднозначных элементов современной урбанистической культуры. Будучи вне институциональных рамок, они нарушают привычный порядок восприятия публичного пространства, одновременно выполняя функцию высказывания, метки, а порой даже вызова.
Исторически граффити восходит к древнеримским и античным надписям на стенах – грубым, дерзким, иногда сатирическим, но всегда стремящимся быть увиденными. Современное уличное искусство родилось в индустриальных районах Нью-Йорка 1970-х гг. как форма выражения маргинализированных сообществ, заявляющих о себе на стенах метро, под мостами и на заброшенных зданиях. Оттуда оно распространилось по миру, постепенно трансформируясь из субкультурного и андерграундного явления в объект городских фестивалей, музейных экспозиций и академического анализа.
В России граффити как явление появилось в 1980-х гг. и с тех пор стало неотъемлемой частью городской культуры. Однако ситуация с граффити в российских городах крайне неоднородна. Москва, будучи одновременно столицей государства и культурным мегаполисом, демонстрирует сдержанность в уличной визуальной экспрессии. Это не означает ее отсутствия – напротив, в последние годы появляются масштабные муралы, особенно в районах реновации или вблизи транспортных магистралей, зачастую создаваемые в рамках городских программ. Однако самопроизвольные граффити вытесняются из центра, стираются коммунальными службами или маргинализируются. Городская среда остается преимущественно контролируемой, и потому в уличном искусстве Москвы ощущается «стерильность». Так, Стена Цоя на Арбате, продолжающая существование как мемориальный объект, воспринимается скорее как часть городской традиции, чем как пространство свободного высказывания. Внутри Бульварного кольца граффити в основном отсутствуют в своей «неофициальной» форме – за редким исключением фестивальных работ, мемориальных мест или временных тегов. Живое, спонтанное уличное искусство перемещено на периферию – в промышленные районы, вдоль железнодорожных путей, на границу с окраинами.
В других российских городах визуальная уличная культура зачастую менее регулируема и проявляется более свободно. Краснодар, например, оказался одним из самых насыщенных визуально – граффити здесь не просто терпят, оно стало узнаваемым городским акцентом1. Екатеринбург – город с сильной визуальной культурой, где улицы Толмачева, Малышева, Попова стали неформальной галереей под открытым небом2. Фестиваль «Стенограффия» закрепил статус города как арт-платформы, куда приезжают художники со всей страны и из-за рубежа3. Нижний Новгород в этом смысле близок к Екатеринбургу: фестиваль «Место» год за годом наполняет город выразительными, зачастую концептуальными работами, нередко осмысляющими локальный контекст – от истории до травмы4. Челябинск, Мурманск, Владивосток – города, где граффити не всегда «одобрено», но тем не менее существует, иногда вопреки климату, закону, равнодушию.
Настоящая статья направлена на осмысление общественного восприятия граффити в российских городах через призму повседневной реакции на уличное искусство. В центре – отклик городского населения, его повседневная оценка, эмоциональные установки и готовность воспринимать граффити как нечто легитимное – эстетически, культурно или хотя бы терпимо. Объект исследования – городское население России, проживающее в регионах с различной визуальной насыщенностью городской среды. Предмет – отношение горожан к граффити как феномену уличного искусства и формам его проявления в городской ткани. Цель – выявить особенности общественного восприятия граффити в российских городах и проанализировать диапазон установок: от признания художественной ценности до неприятия и маркировки как вандализма. Особое внимание уделено контексту – географическому, возрастному, культурному. Задачи включали анализ существующих исследований по заявленной теме; сравнение установок по отношению к граффити в разных типах городов – от мегаполисов до средних промышленных центров; изучение соотношения между восприятием граффити как искусства и как акта вандализма; определение различий по возрасту, уровню образования и включенности в культурную повестку.
Теоретические аспекты изучения граффити и обзор исследований . Осмысление феномена граффити в социальной теории сопряжено с рядом противоречий, касающихся как его генезиса, так и смысловой нагрузки в городской культуре. Исследователи не пришли к единой трактовке: граффити интерпретируется и как продолжение архаических форм самовыражения, и как продукт урбанизированной, медийной и конфликтной среды позднего модерна.
Одна из исследовательских линий связывает граффити с историко-коммуникативной традицией: от античных надписей до лозунгов XX в. – визуальные следы рассматриваются как устойчивый канал внеинституциональной повседневной коммуникации. В этой логике граффити сохраняет черты спонтанности и «естественного» обращения к горожанину. Примером может служить работа Р. Рейснера, изучающего многовековую практику настенных надписей как универсальный культурный жест (Reisner, 1971).
Альтернативный подход, развитый в работах Ж. Бодрийяра, рассматривает граффити как выражение постиндустриальной реальности, где утрачивается прямолинейная символика, а визуальные интервенции становятся частью борьбы за знаковое пространство. Город, по Ж. Бод-рийяру (2000), превращается в поле кодов и симуляций, а акт нанесения изображения – в жест сопротивления нормативности, «знаковую партизанщину».
В рамках социологии девиаций граффити осмысляется через призму стигматизации. Классическая теория Г. Беккера позволяет интерпретировать уличное искусство как социально маркированную практику, девиантность которой не задана изначально, а формируется реакцией общества. Художник-граффитист здесь выступает как «внешний» субъект, создающий ценность вне институционального поля искусства. Один из интерпретационных ракурсов в социологии девиаций – теория «разбитых окон» (Wilson, Kelling, 1982), согласно которой визуальное нарушение порядка, включая нелегальное граффити, способствует формированию чувства запущенности и социального разложения. Эта точка зрения до сих пор активно используется в правоохранительных и административных подходах к уличному искусству.
Отдельное направление связано с трактовкой граффити как формы символического сопротивления и культурного контрнарратива (Ferrell, 1995; Hebdige, 1979). В этих исследованиях граффити мыслится как культурный контрнарратив, не сводящийся к противоправности, но выступающий инструментом переосмысления власти, собственности и доступа к публичному пространству. При этом не исключается и криминологический ракурс: ряд авторов отмечают, что граффити может быть частью закрытого кодированного общения, доступного только участникам определенных субкультур или уличных группировок (Brewer, Miller, 1990; Glazer, 1979). Такой подход хотя и ограничивает понимание граффити как культурной практики, позволяет учитывать сложные взаимоотношения между нелегальностью, самовыражением и территориальным контролем.
В российском научном поле интерес к уличному искусству формируется преимущественно на стыке дисциплин. Искусствоведы обращаются к темам стиля, жанровой принадлежности и художественной выразительности граффити1. Культурологи анализируют граффити как часть визуальной культуры, сосредотачиваясь на эстетике и трансформации городской среды (Личак и др., 2023; Порозов, Клюсова, 2021). Филологи анализируют граффити как особую форму городского текста – с точки зрения языка, семиотики и прагматики надписей (Посиделова, Шалков, 2023).
Все чаще к этой теме обращаются и социологи. Социологический интерес к уличному искусству охватывает широкий круг вопросов: от восприятия визуальных образов в городской среде и формирования общественного мнения до механизмов стигматизации, легитимации и институционального признания (Сафонов и др., 2022). Существенное внимание уделяется субкультурам уличных художников, их ценностям, нормам и способам коммуникации с городским пространством (Молодежь…, 2025: 141).
В фокусе анализа также находятся повседневные практики горожан, символическое присвоение пространства, конфликт норм и самовыражения, а также соотношение уличного искусства с доминирующими культурными и политическими нарративами. Так, Д.В. Руденкин в работе «Уличное искусство в восприятии российской городской молодежи» анализирует отношение к уличному искусству, включая граффити. На основе эмпирических данных он выявляет, что большинство молодых людей не рассматривают его как вандализм или надругательство над городским пространством. Автор также исследует влияние различных факторов (пола, уровня интернет-активности и типа населенного пункта) на восприятие молодежью уличного искусства (Руденкин, 2020).
Ф.Д. Поляков в работе «Граффити как инструмент освоения городской среды: исследование пространственных практик» анализирует, как граффити участвует в символическом присвоении и трансформации городской среды. Он показывает, что граффити не только маркирует пространство, но и меняет способы его повседневного использования, создавая альтернативные маршруты и сценарии восприятия (Поляков, 2024).
Круг исследовательских подходов расширяется также за счет академических работ. В диссертации У.С. Швиндт «Стрит-арт в восприятии населения крупного города: социологический анализ» подробно изучены установки горожан по отношению к различным видам уличного искус-ства1. В частности, показана дихотомия между эстетическим и содержательным восприятием: если жители склонны оценивать стрит-арт как украшение среды, то эксперты акцентируют внимание на его социально-проблемном характере. Работа У.С. Швиндт важна тем, что фокусируется не только на объектах уличного искусства, но и на «аудитории», ее восприятии, что особенно ценно в рамках социологического подхода.
Таким образом, граффити можно рассматривать как сложную форму культурной экспрессии, встроенную в повседневную ткань городской жизни, где пересекаются интересы жителей, художников, власти, а пространство становится ареной визуального высказывания.
Несмотря на устойчивый научный интерес к граффити, большинство работ сосредоточены на субкультурах, правовом статусе или художественной стороне. Настоящее исследование опирается на масштабную эмпирическую базу и фокусируется на восприятии граффити самими горожанами в их повседневном опыте. Полученные результаты обладают потенциалом для применения в области городской политики и проектирования комфортной визуальной среды.
Эмпирическая база и методы исследования . Эмпирическая база сформирована на основе массового социологического онлайн-опроса, проведенного в 2024 г. с участием более 30 000 респондентов2. Для целей анализа была выделена структурированная подвыборка объемом 14 286 человек, охватывающая 16 городов с разной градостроительной структурой и визуальной средой – от мегаполисов федерального значения до крупных региональных центров. В итоговую аналитическую панель вошли Москва (N = 4 230), Санкт-Петербург (1 993), Нижний Новгород (586), Казань (566), Самара (522), Уфа (543), Пермь (526), Воронеж (545), Волгоград (504), Краснодар (772), Ростов-на-Дону (611), Екатеринбург (812), Челябинск (494), Омск (466), Новосибирск (695) и Красноярск (N = 421).
Формирование выборки опиралось на несколько критериев: территориальное разнообразие (с охватом Центральной России, Поволжья, Урала, Юга и Сибири), численность респондентов (не менее 400 человек на город), а также градостроительную специфику – наличие уличного искусства, визуальную насыщенность городской среды, известные художественные практики. В выборку не вошли города Крайнего Севера и Дальнего Востока, что связано с ограниченным числом респондентов и невозможностью выровнять социально-демографическую структуру в этих регионах. Тем не менее совокупность отобранных городов позволяет проследить общие закономерности отношения к граффити в разнообразных типах урбанистической среды.
Необходимо отметить ограничения, связанные со структурными смещениями в социальнодемографическом составе участников. Наблюдается незначительный перекос в сторону более активной возрастной группы 35–44 лет при относительной недопредставленности младших (18– 24 года) и старших (55 лет и старше) респондентов (таблица 1). При этом гендерная структура выборки сбалансирована: 53 % женщин и 47 % мужчин, что в целом соответствует демографическим данным по городскому населению России. Уровень образования участников несколько выше, чем в среднем по стране: доля опрошенных с высшим образованием составляет 49 %, в то время как, по данным Росстата, этот показатель для взрослого городского населения около 35 %. Это отражает склонность более образованных граждан участвовать в онлайн-опросах.
Таблица 1 – Социально-демографические характеристики выборки3
Table 1 – Socio-Demographic Characteristics of the Sample
|
Показатель |
Категория |
Доля, % |
|
1 |
2 |
3 |
|
Пол |
Мужчины |
47 |
|
Женщины |
53 |
|
|
Возраст |
18–24 |
11 |
|
25–34 |
24 |
|
|
35–44 |
31 |
|
|
45–54 |
21 |
|
|
55–65 |
13 |
1 Швиндт У.С. Стрит-арт в восприятии населения крупного города: социологический анализ : дис.... канд. социол. наук. Екатеринбург, 2021. 240 с.
2 Онлайн-опрос был проведен при содействии компании OMI (Online Market Intelligence). Выборка охватывает респондентов из разных регионов России и сбалансирована по полу и географическому распределению. Погрешность выборки не превышает 3 % при доверительной вероятности 95 %. Все различия, представленные в статье, являются статистически значимыми на уровне 0,05.
3 Все таблицы в статье составлены авторами.
Продолжение таблицы 1
|
1 |
2 |
3 |
|
Образование |
Среднее общее |
12 |
|
Среднее специальное (колледж, техникум) |
30 |
|
|
Незаконченное высшее и высшее |
49 |
|
|
Два и более высших / ученая степень |
9 |
|
|
Материальное положение |
Не всегда хватает денег даже на еду |
3 |
|
Денег хватает на еду, но покупка одежды проблематична |
8 |
|
|
Денег хватает на еду и одежду, но покупка товаров длительного пользования (новый холодильник или телевизор) затруднительна |
38 |
|
|
Можем позволить себе товары длительного пользования, но покупка новой машины пока невозможна |
37 |
|
|
Можем позволить себе практически все, кроме покупки квартиры или дома |
11 |
|
|
Можем позволить себе все, в том числе покупку квартиры или дома |
3 |
Структура по материальному положению демонстрирует умеренное преобладание групп со средним уровнем благополучия («не хватает на технику длительного потребления» и «хватает на технику, но не на автомобиль»). Это также типично для интернет-выборок, где выше доля социально активных и экономически обеспеченных граждан. В то же время в массиве представлены и социально уязвимые респонденты, и благополучные, что дает основания для анализа восприятия граффити в зависимости от уровня материального положения.
Указанные ограничения отражают специфику онлайн-опросов, характеризующихся большей вовлеченностью представителей среднего возраста, а также более активных, образованных и экономически стабильных граждан. Этот фактор учтен при интерпретации данных и требует осторожности в экстраполяции результатов на все городское население.
Анкета включала блоки вопросов, направленных на выявление уровня информированности респондентов о феномене граффити, их личных оценок, эмоционального отношения к уличному искусству, а также восприятия допустимых форм его присутствия в городской среде. Полученные данные были обработаны с использованием методов описательной статистики, кросстабуляции и сопоставления по ключевым социально-демографическим признакам.
Результаты исследования . Восприятие граффити как феномена городской среды . Восприятие граффити как элемента городской среды оказалось достаточно устойчивым и в то же время многослойным. Опрос среди жителей 16 крупных и средних российских городов показывает, что информированность о феномене граффити и уличном искусстве в целом высока – более 85 % респондентов заявили, что хорошо представляют, о чем идет речь. Полностью не знакомы с понятием – только 9 %, при этом среди респондентов старшего поколения (60 лет и старше) этот показатель достигает 25 %, что может свидетельствовать о межпоколенческом разрыве в визуальном опыте и повседневной практике взаимодействия с городской средой.
При этом оценка самого явления остается неоднозначной. В среднем по массиву 48 % участников опроса склонны считать граффити формой искусства, тогда как 39 % воспринимают его как неформальное выражение, не относящееся к художественной практике, но в отдельных случаях уместное и допустимое. Лишь 6 % респондентов однозначно определяют граффити как акт вандализма. Эти данные несколько расходятся с результатами исследований, проводимых в более широком социально-территориальном охвате. Например, в опросе ВЦИОМ 2018 г. до 24 % россиян называли граффити формой вандализма1. Такое расхождение может быть связано с возрастной и территориальной структурой выборки: в нашем исследовании представлены преимущественно городские респонденты с более высоким уровнем цифровой и визуальной включенности, а также с небольшим преобладанием возрастной группы 35–44 лет.
Отношение к регулированию и институциональным формам уличного искусства . В вопросах регулирования граффити жители всех городов демонстрируют схожие установки: преобладает мнение о необходимости частичного контроля и выделения специальных пространств для легального уличного искусства (63 %). Такая позиция указывает на сформировавшуюся среди горожан готовность интегрировать граффити в городскую среду, но при условии институциональных рамок, предотвращающих хаотичность и визуальное «засорение» пространства. Тем не менее значительная часть респондентов – каждый десятый – выступает за полную свободу самовыражения, что свидетельствует о ценности для горожан спонтанности и аутентичности уличного искусства, особенно среди молодых или культурно активных групп населения.
Высокий уровень поддержки инициатив городских властей по созданию заказных граффити на общественных и коммерческих объектах (74 %) дополнительно подтверждает, что уличное искусство уже воспринимается как легитимный элемент городской эстетики, а не только как стихийное вмешательство. Это можно рассматривать как запрос горожан на организованное и контролируемое включение граффити в процессы городского благоустройства и создания городской идентичности.
Эмоциональный и когнитивный отклик на граффити. Один из важных аспектов восприятия граффити связан с их способностью вызывать эмоциональный и интеллектуальный отклик у зрителей. Согласно полученным данным, почти половина респондентов (47 %) сталкивались с граффити, которые вызывали сильные эмоции или заставляли задуматься; при этом чаще всего такие впечатления возникали от работ в родном городе (41 %) и значительно реже – при посещении других городов (6 %). Вместе с тем более половины опрошенных (53 %) указали, что не испытывали подобных переживаний, что, вероятно, говорит о преобладающем восприятии граффити как части повседневного визуального фона, не выходящего за пределы эстетического или информационного восприятия. Тем не менее ощутимая доля эмоционально вовлеченных респондентов свидетельствует о наличии у граффити значимого культурного и социального потенциала, позволяющего выходить за рамки чисто декоративной функции и становиться инструментом глубокого визуального диалога с горожанами.
Несмотря на усредненные оценки, различия между городами по некоторым вопросам оказываются отчетливыми. Далее рассмотрено, как жители разных городов оценивают уличное искусство и какие особенности можно проследить в этих региональных различиях.
Региональные различия в восприятии граффити. На первый взгляд, данные демонстрируют высокий уровень поляризации общественного восприятия граффити как феномена городской среды. В ряде городов значительная часть респондентов склонна относить граффити к области искусства. Наиболее ярко эта установка выражена в Казани и Нижнем Новгороде (по 56 %), Челябинске (55), Уфе (52) и Екатеринбурге (51 %) (таблица 2). Эти показатели свидетельствуют не столько о формальном признании художественной ценности уличного искусства, сколько о культурной готовности воспринимать визуальное вмешательство в город как форму легитимного высказывания. Характерно, что в тех же городах отмечается и высокий уровень симпатии к локальным граффити: более 60 % респондентов в Казани, Нижнем Новгороде, Уфе и Челябинске заявляют, что им нравятся граффити в районе проживания, а 66–70 % – в городе в целом.
Таблица 2 – Отношение к граффити и уличному искусству жителей разных российских городов, %1
Table 2 – Attitudes toward Graffiti and Street Art among Residents of Various Russian Cities, % of Valid Responses
|
Город |
1 s ? t e S' IM eg |
1 s 1 b e £ S? -e- ° о га s z |
eg I |
к 5 ф its. I и |
Ph® I я a фр.® X |
hi СП p X “ |
h« z L |
|
Нижний Новгород |
56 |
33 |
4 |
63 |
24 |
70 |
18 |
|
Казань |
56 |
33 |
4 |
67 |
22 |
70 |
19 |
|
Челябинск |
55 |
33 |
4 |
63 |
23 |
66 |
22 |
|
Уфа |
52 |
35 |
6 |
61 |
23 |
69 |
20 |
|
Екатеринбург |
51 |
37 |
7 |
46 |
39 |
54 |
34 |
|
Москва |
50 |
37 |
7 |
55 |
31 |
56 |
31 |
|
Самара |
49 |
39 |
7 |
52 |
34 |
53 |
32 |
|
Ростов-на-Дону |
49 |
40 |
4 |
56 |
30 |
60 |
25 |
|
Омск |
48 |
40 |
5 |
58 |
27 |
61 |
25 |
|
Краснодар |
47 |
39 |
7 |
56 |
32 |
59 |
29 |
|
Новосибирск |
47 |
40 |
5 |
53 |
31 |
59 |
28 |
|
Пермь |
46 |
42 |
5 |
52 |
32 |
56 |
27 |
|
Воронеж |
43 |
43 |
6 |
53 |
33 |
60 |
29 |
|
Санкт-Петербург |
42 |
44 |
7 |
45 |
39 |
52 |
32 |
|
Красноярск |
42 |
46 |
6 |
50 |
31 |
54 |
31 |
|
Волгоград |
39 |
43 |
9 |
47 |
39 |
49 |
37 |
Сравнение с такими городами, как Санкт-Петербург и Волгоград, показывает иную динамику. Несмотря на культурную насыщенность и наличие стрит-арта, Санкт-Петербург демонстрирует один из самых низких уровней признания граффити как искусства (42 %), а также один из наиболее высоких показателей восприятия граффити как ухудшающего городскую среду (28 %).
В Волгограде эти тенденции еще более выражены: только 39 % склонны считать граффити искусством, при этом 9 % прямо называют его вандализмом – максимальный показатель среди всех городов. Здесь же фиксируется самая высокая степень неприятия граффити как в районе проживания, так и в городе в целом (39 и 37 % соответственно), а также убежденность в том, что граффити скорее ухудшают визуальный облик городской среды (29 %) (см. таблицы 2, 3).
Таблица 3 – Мнение респондентов из разных городов России о влиянии граффити на городскую среду, %
Table 3 – Respondents’ Opinions from Various Russian Cities on the Visual Impact of Graffiti, % of Valid Responses
|
Город |
Улучшают городскую среду |
Ухудшают городскую среду |
Не влияют |
|
Нижний Новгород |
56 |
15 |
14 |
|
Казань |
52 |
14 |
16 |
|
Челябинск |
53 |
15 |
18 |
|
Уфа |
52 |
17 |
15 |
|
Екатеринбург |
40 |
28 |
14 |
|
Москва |
44 |
23 |
16 |
|
Самара |
40 |
26 |
18 |
|
Ростов-на-Дону |
46 |
19 |
18 |
|
Омск |
47 |
22 |
17 |
|
Краснодар |
41 |
25 |
16 |
|
Новосибирск |
45 |
22 |
17 |
|
Пермь |
44 |
23 |
15 |
|
Воронеж |
44 |
24 |
16 |
|
Санкт-Петербург |
35 |
28 |
16 |
|
Красноярск |
43 |
24 |
15 |
|
Волгоград |
33 |
29 |
20 |
Важно отметить, что отношение к граффити существует не в социальном вакууме и зачастую формируется в зависимости от культурной политики города и официальной позиции властей. В этом плане данные хорошо коррелируют с различиями в институциональном статусе уличного искусства. Так, Краснодар – один из немногих городов, где муниципалитет открыто поддерживает уличных художников. С 2021 г. здесь ежегодно выделяются бюджетные средства на развитие граффити-сообщества, а власти не только терпимо относятся к уличному искусству, но и предоставляют площадки для его легального проявления. Неудивительно, что положительное отношение к граффити в Краснодаре устойчиво: 50 % респондентов считают его искусством, а около 60 % – одобряют его присутствие в городской среде.
В Нижнем Новгороде, где проводится фестиваль «Место», эффект аналогичный: институционализация уличного искусства сопровождается возрастанием его легитимности в массовом сознании.
Для Москвы и Санкт-Петербурга картина иная. В Москве, несмотря на формальную столичную открытость, уличное искусство находится под строгим контролем – нелегальные граффити оперативно удаляются коммунальными службами. Это создает эффект «стерильности» городской среды и может способствовать сдержанному отношению горожан: хотя 50 % респондентов и признают граффити искусством, около четверти оценивают его негативно. В Санкт-Петербурге, несмотря на наличие значимых арт-площадок (например, Севкабель Порт), официальная политика остается амбивалентной – уличное искусство не запрещается, но и не поощряется, что, возможно, объясняет низкий уровень поддержки среди жителей.
Таким образом, различия в восприятии граффити связаны не только с личными установками, но и с институциональным фоном. Там, где уличное искусство получает поддержку на уровне городской политики и становится частью культурной инфраструктуры, жители чаще воспринимают его как искусство и элемент городской идентичности. В городах с жесткой нормативной моделью преобладают отчужденность, тревога, а иногда и прямое неприятие.
Анализ данных о когнитивном и эмоциональном отклике на граффити в разных городах показывает, что даже при внешне схожих позициях по ключевым вопросам восприятия локальные различия вполне ощутимы – и иногда парадоксальны. В целом наибольшую эмоциональную включенность демонстрируют респонденты из крупных городов с развитой визуальной культурой: в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Москве около 44–47 % опрошенных отметили, что сталкивались с граффити, вызвавшими у них сильные эмоции (таблица 4). Это позволяет говорить о наличии в этих городах не только яркой визуальной среды, но и сформировавшегося навыка ее культурного считывания.
Таблица 4 – Эмоциональный и когнитивный отклик жителей на граффити в разных городах, %
Table 4 – Emotional and Cognitive Response of Residents to Graffiti in Different Cities, % of Valid Responses
|
Город |
Граффити вызывали сильные эмоции в родном городе |
Граффити вызывали сильные эмоции в другом городе |
Граффити не вызывали эмоций |
|
Санкт-Петербург |
47 |
4 |
49 |
|
Екатеринбург |
47 |
5 |
48 |
|
Нижний Новгород |
46 |
5 |
49 |
|
Челябинск |
44 |
5 |
51 |
|
Москва |
44 |
7 |
49 |
|
Уфа |
43 |
5 |
52 |
|
Краснодар |
43 |
6 |
51 |
|
Ростов-на-Дону |
42 |
8 |
49 |
|
Пермь |
42 |
5 |
53 |
|
Омск |
41 |
5 |
53 |
|
Казань |
40 |
5 |
55 |
|
Самара |
38 |
7 |
56 |
|
Красноярск |
37 |
4 |
59 |
|
Воронеж |
36 |
8 |
56 |
|
Новосибирск |
34 |
7 |
59 |
|
Волгоград |
31 |
9 |
60 |
На этом фоне особенно показателен Волгоград, где зафиксированы самые низкие величины эмоционального отклика (31 %) и одновременно одна из самых небольших долей тех, кто считает граффити искусством (39 %). Свыше 60 % волгоградцев не испытывали никаких эмоций при столкновении с граффити, что может быть связано как с характером местных визуальных интервенций (вероятно, преимущественно нелегальные и неэстетичные надписи), так и с общей нормативной рамкой восприятия – граффити как визуального шума, а не высказывания (см. таблицу 4).
Схожая ситуация наблюдается в Красноярске и Новосибирске, где также фиксируется высокий уровень «неотклика» – по 59 % – при относительно низком признании граффити как искусства (42 и 47 % соответственно). Это может свидетельствовать о том, что формальное присутствие граффити в городском пространстве еще не гарантирует культурного включения горожан в диалог с этим визуальным языком.
Парадоксально, что Санкт-Петербург при значительной доле тех, кто не считает граффити искусством (44 %), демонстрирует высокую долю эмоционального отклика на них (47 %). Это указывает на разрыв между рациональной оценкой и непосредственным визуальным воздействием: даже если граффити воспринимаются как нечто «внекультурное», они по-прежнему способны затрагивать чувства и побуждать к размышлению. Подобное расщепление может быть связано с амбивалентной культурной политикой города, где соседствуют как тщательно курируемые уличные проекты, так и несанкционированные визуальные вмешательства, создающие разнообразную и неоднозначную среду.
В целом эмоциональный отклик на граффити, судя по данным, находится в прямой зависимости от степени визуального насыщения городской среды, но при этом преломляется через призму культурной настройки горожан: уровень институциональной легитимности, локальные практики и символическая плотность визуальных образов влияют на то, будет ли граффити воспринято как шум или как высказывание.
Социально-демографические различия в восприятии граффити. Помимо региональных различий, значимыми оказываются и социально-демографические факторы, влияющие на восприятие граффити. Далее рассмотрено, как установки различаются в зависимости от пола, возраста, уровня образования и материального положения респондентов.
Анализ различий в восприятии граффити мужчинами и женщинами показывает достаточно устойчивую, но не драматичную гендерную асимметрию. Женщины в целом демонстрируют чуть более благожелательное отношение к граффити и уличному искусству. Так, 52 % женщин считают граффити искусством (против 41 % мужчин), при этом женщины реже определяют его как вандализм – 5 против 9 %. Они также заметно чаще выражают симпатию к граффити в городской среде: 61 % женщин положительно оценивают их присутствие в городе и 58 % – в районе проживания, тогда как среди мужчин эти доли составляют 49 и 47 % соответственно. Данное различие может отражать различный опыт восприятия городской среды: женщины зачастую более чувствительны к атмосфере и визуальному фону пространства, особенно в повседневных маршрутах.
Кроме того, женщины реже поддерживают строгое регулирование граффити (25 % мужчин и 15 % женщин считают, что власти должны строго регулировать граффити). Такая разница в установках может иметь сразу несколько объяснений. Во-первых, она нередко связана с разной степенью восприятия граффити как угрозы привычному порядку: мужчины в среднем чаще идентифицируются с нормативной позицией по отношению к городской среде, в том числе в плане контроля, функциональности и визуальной иерархии. Визуальное вмешательство, особенно несанкционированное, может восприниматься ими как нарушение символического порядка или «деструкция фона», особенно если оно не подпадает под эстетические или целевые категории.
Во-вторых, не исключено, что речь идет о более глубокой культурной модели маскулинной «охранительной» позиции: склонности к нормативности, иерархичности, поддержке регулирующих механизмов в публичной сфере. Это может проявляться в большей поддержке властных структур и предпочтении «чистых», однозначных решений, например полной регуляции, запрета, наказания, в то время как женщины чаще демонстрируют гибкость, компромиссную позицию и доверие к эстетической спонтанности городской среды.
Кроме того, женщины, как показывают и другие исследования восприятия городской среды, нередко более эмоционально связаны с пространством повседневности – кварталом, районом, маршрутом (Gender and sex differences…, 2022; Li et al., 2022). Граффити может восприниматься ими как оживление, визуальный отклик среды на их присутствие. В то время как для части мужчин это скорее знак отклонения от нормы, вызов порядку, особенно если он не соответствует эстетике «благоустройства».
И, наконец, нельзя исключать влияние культурных ожиданий: если женщинам социально «разрешено» испытывать симпатию к уличному искусству как к проявлению чувств, эмоций, социальной заботы, то мужчины, особенно старших поколений, могут воспринимать такую открытость как «неподобающую» или «несерьезную» позицию. Это приводит к выраженной нормативной ориентации: «граффити – это нарушение, значит, должно быть наказано».
Таким образом, наблюдаемая разница, вероятно, не просто вкусовая вариация, а отражение более широкой культурной и символической структуры, в которой восприятие городской среды, власти и нормы гендерно опосредовано.
Интересно, что при всех этих различиях уровень эмоционального отклика на граффити практически идентичен у мужчин и женщин. В обоих случаях 37–38 % респондентов указывали, что встречали граффити, вызывавшие у них сильные эмоции в родном городе, и примерно 8–10 % – в других городах. Этот парадокс может говорить о том, что эмоциональная вовлеченность в уличное искусство не полностью коррелирует с декларативным отношением к нему. Иначе говоря, даже те, кто не считает граффити искусством, могут эмоционально реагировать на отдельные работы – особенно если они попадают в контекст личного опыта, травмы, воспоминаний или удивления.
Анализ различий в восприятии граффити среди разных возрастных групп подтверждает устойчивую возрастную градацию отношения к уличному искусству. Молодежь (особенно в группе 18–24 года) демонстрирует заметно более благожелательную и открытую позицию: 63 % считают граффити искусством, тогда как среди старшей группы (55–65 лет) эта доля снижается до 36 % (таблица 5).
Таблица 5 – Отношение к граффити в разных возрастных группах, % ответивших в каждой группе
Table 5 – Attitudes toward Graffiti Across Different Age Groups, % of Respo ndents in E ach Group
|
Отношение к граффити |
18–24 N = 1 572 |
25–34 N = 3 428 |
35–44 N = 4 428 |
45–54 N = 3 001 |
55–65 N = 1 857 |
|
Знают, что такое граффити |
79 |
87 |
85 |
82 |
72 |
|
Не знают или затрудняются ответить |
14 |
8 |
9 |
9 |
16 |
|
Граффити – это искусство |
63 |
57 |
48 |
38 |
36 |
|
Граффити – это не искусство |
27 |
33 |
40 |
45 |
45 |
|
Граффити – это вандализм |
5 |
4 |
5 |
7 |
10 |
|
Нравятся граффити в районе |
53 |
58 |
57 |
50 |
45 |
|
Не нравятся граффити в районе |
30 |
30 |
28 |
34 |
37 |
|
Нравятся граффити в городе |
57 |
62 |
61 |
52 |
47 |
|
Не нравятся граффити в городе |
30 |
26 |
26 |
33 |
37 |
|
Улучшают городскую среду |
39 |
48 |
47 |
41 |
36 |
|
Ухудшают городскую среду |
23 |
20 |
20 |
25 |
28 |
|
Не влияют на городскую среду |
22 |
17 |
15 |
16 |
17 |
|
Власти должны строго регулировать граффити |
11 |
14 |
18 |
23 |
27 |
|
Частично регулировать, разрешая в специальных местах |
66 |
67 |
62 |
59 |
55 |
|
Не должны регулировать |
13 |
10 |
9 |
8 |
7 |
|
Поддерживают заказные граффити |
74 |
76 |
76 |
75 |
71 |
|
Не поддерживают заказные граффити |
11 |
10 |
9 |
9 |
10 |
|
Граффити вызывали сильные эмоции в родном городе |
45 |
43 |
39 |
31 |
26 |
|
Граффити вызывали сильные эмоции в другом городе |
7 |
9 |
9 |
9 |
8 |
|
Граффити не вызывали эмоций |
48 |
48 |
52 |
60 |
66 |
Аналогичная тенденция прослеживается и в эмоциональной включенности: 45 % молодых людей указывали, что сталкивались с граффити, вызвавшими у них сильные эмоции, против всего 26 % в старшей возрастной группе, т. е. в 2 раза меньше
Молодежь и взрослые чаще старших возрастных групп отмечают, что граффити нравятся им как в районе проживания, так и в городе в целом, а также склонны рассматривать их как улучшающий элемент городской среды. В группе 18–24 лет 39 % считают, что граффити улучшают городской ландшафт, при этом у старших (55–65 лет) этот показатель составляет 36 %, но на фоне более высокого уровня негативных оценок (28 % из старшей группы против 23 % у самых молодых считают, что граффити ухудшают городскую среду). Разница особенно заметна в установках на регуляцию: поддержка строгого контроля со стороны властей почти втрое выше в группе 55–65 лет (27 %), чем в группе 18–24 лет (11 %). Молодежь чаще выступает за полную свободу или умеренное ограничение.
Таким образом, с возрастом отношение к граффити становится менее терпимым, более нормативным и «охранительным». Это можно объяснить как разными ценностными ориентациями поколений, так и особенностями визуального опыта. Старшие поколения формировались в эпоху доминирования строго регламентированных городских пространств, где уличное искусство в привычном смысле практически отсутствовало и ассоциировалось скорее с нарушением порядка, чем с культурным явлением. Молодежь живет в другой визуальной реальности – насыщенной, разнообразной, с большей нормализацией нестандартных форм выражения. Для нее граффити – это часть визуальной нормы, а не «эксцесс».
Любопытно, что даже в старших группах наблюдается не только отторжение, но и осторожная поддержка, например, заказных граффити от городских властей. Поддержка таких инициатив остается высокой во всех возрастах (от 71 до 76 %), что говорит о потенциальной точке консенсуса: даже скептически настроенные респонденты готовы признать за граффити право на существование, если оно реализуется «по правилам». Таким образом, возрастные различия касаются скорее формы и условий проявления граффити, нежели самого его существования.
Несмотря на ожидаемую связь между уровнем образования и культурными установками, данные не выявляют существенных различий в восприятии граффити. Все группы – от респондентов со средним образованием до обладателей ученой степени – демонстрируют схожую долю тех, кто считает граффити искусством (46–50 %). Иными словами, образование не оказывает решающего влияния на отношение к уличному искусству. Это может показаться неожиданным, если исходить из предположения о большей культурной открытости образованных респондентов. Однако граффити остается в массовом восприятии амбивалентным явлением: даже среди хорошо образованных людей оно не всегда воспринимается как часть «высокой культуры». Более того, установка на визуальный порядок и соблюдение правил может снижать принятие несанкционированных форм выражения.
Тем не менее отдельные различия прослеживаются. Респонденты с высоким уровнем образования чаще сталкивались с граффити, вызывавшими сильные эмоции (44 % против 36–39 % в других группах), что может свидетельствовать о более развитой чувствительности к визуальному высказыванию. Также они чаще поддерживают строгую регуляцию граффити (23 % против 15–19 % в других группах), что, вероятно, связано с установкой на порядок и структурированность среды. Таким образом, уровень образования влияет не столько на общее отношение к граффити, сколько на нюансы восприятия и степень эмоциональной включенности.
Для анализа воздействия материального положения на отношение к уличному искусству была использована самооценка респондентами уровня своей обеспеченности. На основе ответов сформированы четыре укрупненные группы, отражающие разные степени экономической устойчивости.
В первую группу – социально уязвимые – вошли те, кто не всегда может позволить себе даже еду или испытывает трудности с покупкой одежды.
Вторая группа – ограниченные в средствах – включает респондентов, чье потребление ограничивается базовыми нуждами и товарами повседневного спроса, но приобретение техники или автомобиля вызывает затруднение.
Третья – относительно обеспеченные – это те, кто может позволить себе бытовую технику, но не крупные покупки вроде автомобиля или недвижимости.
И, наконец, четвертая – благополучные – включает тех, кто в состоянии приобрести почти все, вплоть до квартиры или дома. Распределение установок в зависимости от материального положения демонстрирует интересную и на первый взгляд неочевидную закономерность: чем выше уровень благополучия респондентов, тем более лояльно они настроены к граффити (таблица 6).
Таблица 6 – Отношение к граффити в зависимости от уровня материального положения, % ответивших в каждой группе
Table 6 – Attitudes toward Graffiti by Level of Material Well-Being,
% of Respondents in Each Group
|
Отношение к граффити |
Социально уязвимые |
Ограниченные в средствах |
Относительно обеспеченные |
Благополучные |
|
Граффити – это искусство |
46 |
47 |
48 |
55 |
|
Граффити – это не искусство |
34 |
41 |
41 |
34 |
|
Граффити – это вандализм |
7 |
5 |
6 |
6 |
|
Нравятся граффити в районе |
51 |
53 |
55 |
60 |
|
Не нравятся граффити в районе |
32 |
31 |
32 |
29 |
|
Нравятся граффити в городе |
54 |
57 |
58 |
62 |
|
Не нравятся граффити в городе |
32 |
29 |
29 |
28 |
|
Улучшают городскую среду |
41 |
44 |
45 |
48 |
|
Ухудшают городскую среду |
22 |
22 |
23 |
23 |
|
Не влияют на городскую среду |
18 |
17 |
16 |
16 |
|
Власти должны строго регулировать граффити |
22 |
18 |
19 |
20 |
|
Частично регулировать, разрешая в специальных местах |
58 |
64 |
65 |
60 |
|
Не должны регулировать |
11 |
8 |
9 |
12 |
|
Поддерживают заказные граффити |
67 |
74 |
78 |
73 |
|
Не поддерживают заказные граффити |
13 |
9 |
9 |
13 |
|
Граффити вызывали сильные эмоции в родном городе |
34 |
35 |
39 |
47 |
|
Граффити вызывали сильные эмоции в другом городе |
9 |
9 |
9 |
8 |
|
Граффити не вызывали эмоций |
58 |
56 |
52 |
45 |
Среди группы благополучных доля тех, кто считает граффити искусством, достигает 55 % – это заметно выше, чем в других группах (где доли колеблются в пределах 46–48 %). Они также чаще испытывают положительные эмоции по отношению к уличному искусству в своем районе (60 %) и в городе в целом (62 %). В восприятии городской среды граффити для них скорее улучшают облик города (48 %), тогда как среди менее обеспеченных доля таких ответов ниже (41–45 %).
Эмоциональный отклик на граффити также значительно выше среди благополучных: 47 % этой группы отмечали, что сталкивались с граффити, вызывавшими у них сильные эмоции. В то время как в группе социально уязвимых этот показатель составляет всего 34 %. Возможно, речь идет о разной степени включенности в городскую визуальную культуру, но также о разной способности – или привычке – замечать, фиксировать, придавать значение визуальным сигналам в публичной среде.
Выявленный сдвиг может быть обусловлен рядом причин. Во-первых, более обеспеченные респонденты, как правило, живут в визуально насыщенной, ухоженной городской среде – в районах, где и само уличное искусство может быть более эстетичным и продуманным. Они сталкиваются не столько с каракулями в подворотне, сколько с муралами, фестивальными работами и визуальными решениями, приближенными к профессиональному искусству. Значит, они чаще видят «хорошие» граффити и потому с большей вероятностью признают в них художественную ценность.
Во-вторых, культурный капитал и уровень насмотренности1 также могут играть роль: люди с высоким уровнем материального достатка в целом чаще бывают в путешествиях, посещают города с развитой визуальной средой, фестивали, музеи. Это расширяет палитру визуального опыта и делает уличное искусство – даже в локальной среде – более узнаваемым, привычным, приемлемым. В каком-то смысле это не воспринимается как нарушение, а скорее как элемент культурного кода, близкого эстетическим ожиданиям этих групп.
Все группы в целом поддерживают идею частичного регулирования (58–65 %), выступают за заказные граффити (67–78 %). Некоторая вариативность наблюдается в оценке допустимости свободы или строгости контроля. Это позволяет предположить, что идея граффити как городского явления на уровне общественного сознания уже принята, но тон восприятия и степень эмоционального участия в значительной мере зависят от уровня материального и культурного благополучия.
Заключение . Исследование позволяет сделать вывод, что граффити перестает восприниматься как однозначное нарушение порядка и все чаще рассматривается как часть городской жизни. Вместе с тем сохраняется и настороженность, особенно в отношении спонтанных, несанкционированных граффити, появляющихся в неожиданных местах.
Отношение к граффити в значительной мере зависит от того, в каком городе живет человек, насколько в этом городе развита визуальная культура, как местные власти взаимодействуют с уличными художниками. Там, где уличное искусство поддерживается – через фестивали, заказные работы, открытую городскую политику, и горожане чаще воспринимают его как нечто уместное, осмысленное и даже красивое. В других случаях граффити по-прежнему считается нарушением, особенно если оно связано с безвкусицей или неразборчивыми метками.
Некоторые различия выявлены и по социально-демографическим признакам. Молодые респонденты, женщины и люди с высоким уровнем материального достатка чаще выражают положительное отношение к граффити, видят в нем эстетический или эмоциональный смысл. Старшие поколения и мужчины в большей степени склонны к сдержанному или критическому восприятию. Уровень образования, как ни странно, не оказал заметного влияния: не выявлено выраженных различий в представлениях о граффити, что может говорить о неоднозначной позиции самого общества в отношении уличного искусства.
На основе собранных данных можно сделать важный вывод: отношение к граффити у горожан формируется не столько под влиянием формальных характеристик (дохода, образования, пола), сколько через личный визуальный опыт, повседневное окружение и общее отношение к городской среде. Уличное искусство остается предметом обсуждения и споров, но уже ясно, что оно прочно вошло в городскую ткань – как высказывание, визуальный след и своеобразная форма диалога между горожанином и городской средой.