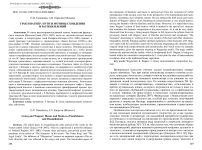Грак и Вагнер: пути и мотивы схождения и расподоблений
Автор: Тимашева Оксана Владимировна, Карпова Анна Вадимовна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Компаративистика
Статья в выпуске: 1 (52), 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается ранний период творчества французского писателя Жюльена Грака (1910-2007), когда он, испытав сильное воздействие музыки и литературных идей Рихарада Вагнера (1813-1883), пришел к новой трактовке чувственного в произведениях «Замок Арголь» (1938) и «Король-рыбак» (1948). Влияние «вагнеризма» стало важным отрезком его пути в искусстве и нашло отражение в эссеистике и прозе писателя. Интермедиальный аспект взаимодействия литературы и музыки анализируется не с точки зрения вербального воспроизведения музыкальной партитуры, а в ракурсе ее интерпретации и модификации, воссоздающей новый смысловой контекст. Подчеркивается, что Ж. Грака привлекала не только музыка, но и театральность произведений Вагнера, граничащая с карнавализацией, т.е. особой поэтикой, в которой фантастическое смешивается со смеховым и идеальным. Отмечено также, что Грак заимствует у Вагнера и систему лейтмотивов, что выражается в особой структуре текста, соблюдающей в прозе драматическую композиционность. Однако в отличие от Р. Вагнера Ж. Грак отказывается от психологической мотивации поступков персонажей, десакрализирует чувственное и лишает средневековые мифологемы христианских коннотаций, сближая тем самым духовные устремления персонажей оперы Р. Вагнера с сюрреалистическими поисками абсолюта. Композиционно и интонационно перегруппировывая элементы исходного мифа о Граале, французский писатель с помощью семантических трансформаций придает противоположный смысл вагнерианским мотивам. Трагический конфликт духовного и телесного, фундаментальный у Р. Вагнера, претворяется в сюрреалистической трактовке Ж. Грака в идею трансцендентного откровения, чуждого традиционной бинарной оппозиции.
Вагнеризм, р. вагнер, ж. грак, карнавализация, композиция, лейтмотив
Короткий адрес: https://sciup.org/149127418
IDR: 149127418 | DOI: 10.24411/2072-9316-2020-00023
Текст научной статьи Грак и Вагнер: пути и мотивы схождения и расподоблений
Вагнеровское искусство считают сильно воздействующим, универсально значимым. Уже при жизни композитора возникло понятие вагнеризм, вошедшее затем во все словари и многие исследовательские работы, посвященные творчеству немецкого композитора и его влиянию на выдающихся людей последующих эпох. По мнению искусствоведа Т.В. Букиной, в отличие от «моцартианства», «глинкианства», «итальянизма» и прочих музыкальных клише, вагнеризм встречается не только в виде одного из расхожих обобщений музыкальных приемов, но и приближается к статусу термина. Он присутствует в нескольких специализированных музыкальных словарях [Букина 2007]. Французская «Энциклопедия уни-версалис» определяет вагнеризм как «особый род эстетики, получивший развитие в творчестве Вагнера, выразившийся в самобытном музыкальном языке, изобилующем техническими, гармоническими и оркестровыми инновациями» [Pavens],
Особенностью вагнеризма считается и то, что он представлен не только как тенденция развития музыкального творчества, но и как художественное течение в литературе, где дальнейшей переработке подверглись поэтическая и эстетическая составляющие его произведений. По мнению В.Д. Кастрель, всплеск интереса ряда писателей к творчеству немецкого композитора на рубеже XIX XX вв. обусловлен тем, что ключевые образы его произведений, реализуя извечный трагический конфликт духовного и телесного, «становятся маркерами принадлежности автора и его читателя к космополитичной декадентской субкультуре» [Кастрель 2014, 50]. Кроме того, вагнеровский миф о теургическом «всенародном искусстве» как о синтезе всех видов искусств и разрушении границ между зрителем и
рампой послужил основой концепции «искусства как жизнетворчества» и символа «мирового оркестра» [Магомедова 2005, 289] в творчестве русских символистов.
По мнению французского исследователя Э. Бедриомо, беспрецедентным оказалось влияние Вагнера и на французскую литературу, поскольку распространилось «на целое поколение самых различных писателей, которых для удобства именовали “символистами”» [Bedriomo 1984, 32]. Ш. Бодлер замечает, что «ни один музыкант не превосходит Вагнера в живописании /гространства и его глубин, материальных и духовных» [Бодлер 2014, 60], а П. Верлен провозглашает оперы Вагнера вершиной современного искусства, «торжествующим проявлением самой возвышенной музыки и поэзии» [Bedriomo 1984, 34]. Уже в XX в. с большой тщательностью музыкальное наследие Вагнера изучает, в частности, М. Пруст, о чем свидетельствуют многочисленные музыкальные отступления о нем в прозе писателя.
Интермедиальность литературы, понимаемая нами как «особый тип структурных взаимосвязей, основанный на взаимодействии языков различных видов искусства в системе единого художественного целого» [Ти-шунина 1998, 4], не является непосредственным переносом музыкальной формы в художественный текст. По утверждению А.Е. Махова, «поэтика всегда взаимодействовала не с музыкой как непосредственной звуковой реальностью, но с комплексом музыкальных категорий и отвлеченноумозрительных идей о музыке» [Махов 2007, 7]. Осуществляя интермедиальную референцию, автор не столько стремится вербально воспроизвести музыкальную партитуру, сколько интерпретировать ее, стилистически адаптируя под конкретные художественные задачи. В этом ключе необходимо рассматривать не только средства воспроизведения музыки в тексте, но и рецепцию писателем идеологии композитора и ключевых тем его произведений, которые затем трансформируются и предстают в новом, подчас диаметрально противоположном осмыслении.
«Вагнерианский нимб» отчетливо различим в монологической прозе французского писателя Жюльена Брака (1910-2007), которая многими исследователями также характеризуется как «произведения-пейзажи», «произведения-атмосферы». Если Грак, говоря о Вагнере, утверждает, что ему «достаточно трех тактов его музыки, чтобы среди с трудом переносимых звуков различить шум моря из самой дальней дали» [Gracq 1988, 206], то У. Маклендон отмечает общую атмосферу «ирреальности», пронизывающую все творчество писателя, которую он отчасти соотносит с «вагнериз-мом» Грака: «Нельзя отделаться от ощущения, что события в его романах протекают в неком непроницаемом для посторонних взглядов мире, будто бы на другой планете, несмотря на то, что действие разворачивается в современном реальном мире и, по всей вероятности, в Европе» [McLendon, 1968 539].
Сам Ж. Грак неоднократно упоминает имя Р. Вагнера в своих статьях, прямо называя его своим учителем и наставником. К примеру, в эссе «За-290
главные буквы» он перечисляет имена творцов, определивших его дорогу в искусстве: «В 12 лет у меня был По, в 14 - Стендаль, в 15 - Вагнер, в 18 - Бретон. Они мой оплот и источник вдохновения» [Gracq 1988, 42^13]. В предисловии к пьесе «Король-рыбак» (1948) Ж. Грак называет Вагнера «непревзойденным гением», который «одним махом завладел этим сокровищем и выжал из него все, что только сумел» [Gracq 1948, 14]. При этом Ж. Грак не раз подчеркивает, что опера не ограничивается для него лишь музыкой, а является «единым священнодействием», соединяющим в себе либретто, музыку, декорации, текст: «Нет сомнений в том, что мое пристрастие к Вагнеру связано с его усилиями по созданию и овладению неким единым искусством, соединяющим драму, музыку и поэзию» [Carriere 1986, 56].
Р. Вагнер, по мнению Ж. Грака, был гением-наставником, сократившим до предела свободное восприятие своей музыки. Основная цель его литургического искусства, «перегруженного указаниями, тайными знаками, предостережениями» [Gracq 1988, 203], состояла в том, чтобы сформировать послушную аудиторию, пробудить, наставить, обучить. «Вагнер разъедает, расщепляет, поглощает, “вагнеризирует” несравненно больше вещей, чем любой из музыкантов» [Gracq 1988, 200].
Музыка Вагнера, которую Ницше сравнивал с «открытой раной», порой необычайно сильно воздействующая, во многом способствовала созданию особой атмосферы романов Ж. Грака: ключевые образы проникнуты вагнерианскими мотивами, отмечены печатью надрыва, страдания и тоски. Не случайно Грак сравнивал музыку Вагнера с женщиной-вамп, завораживающей нарочитостью внешних черт, как бы кричащей о своей тайне. «Красота, удушливая во всех ее проявлениях и настолько же грубо подчеркнутая, темное и необоримое очарование женщины, о которой шепчутся... Музыка Вагнера - это инстинктивно-судорожное движение, лихорадочная монотонная реприза, невыносимая, практически лишенная души» [Gracq 1988, 204].
Граку созвучно у Вагнера движение воздуха и воды. Литературные, музыкальные, искусствоведческие мотивы у него связаны со множеством разных известных имен. Их видение может показаться сумбурным: Рембрандт (свет и тьма); Клод Лоррен (архитектура далекого прошлого на плейере); Пиранези (историческое и фантазийное свидетельство исчезнувших цивилизаций в гравюре); Дюрер (ясность образа, соблюдение пропорций); Гоген (дикая природа, «откуда мы пришли»). Психологическая аура его романов связана с природными явлениями на фоне «отзвучавших культур»: мистическим шевелением песка у моря, дрожанием листьев, предвещающим опасность, неожиданно меняющейся окраской воды в заливе. Встреча времени, места и пространства - вот, пожалуй, основной костяк его сюжетов.
Грака привлекает в Вагнере не только его музыка, но и театральность, граничащая с карнавализацией, особой поэтикой, в которой фантастическое смешивается со смеховым и идеальным. Хотя он и упрекает немец-

кого композитора в том, что тот «соединил священнодействие искусства с атмосферой поздней Римской империи, кадильницами, диадемами и тиарами» [Gracq 1988, 200], - сам Грак оказался весьма восприимчивым к торжественно-величественной архитектонике музыкальных драм Вагнера. Зачастую взаимоотношения между персонажами его романов описаны, как в театральной пьесе, в то время как природа, их окружающая, становится заклятым местом действия, декорацией этой пьесы: «Словно залитые слабым светом рампы, круглые шапки деревьев всплывали отовсюду из бездны... как будто народ ждет трех ударов, что раздадутся на башнях замка» [Грак 2005, 24].
Зачастую Ж. Грак пытается воспроизвести музыку на страницах своих романов, что называется, «вербально», замещая «музыкальное» «словесным» и прибегая при этом к особым средствам изображения. «Соперничая» с музыкой, французский писатель стремится, подобно романтикам, к созданию особой «мелодии слова, как “цепочке” «всех возможных внесин-таксических соотношений звуков и смыслов» [Махов 2007, 9]. Нагляднее всего это чувствуется в романе «Замок Арголь» (1938), где Грак описывает игру Герминьена: «...звуки кристальной чистоты, словно четки, перебираемые в удивительном и колеблющемся decrescendo, плыли, как звучащий пар» [Грак, 2005, 36]
Грак заимствует у Вагнера и систему лейтмотивов, которую он характеризует «как строгий взгляд мэтра, призывающий нерадивого слушателя к порядку» [Gracq 1988, 203]. Сам Р. Вагнер, который не использовал термин «лейтмотив» в своих работах, называет их «мелодическими моментами», скрепляющими музыкальную форму оперы и тем самым посвящающими слушателя «в сокровеннейшие тайны поэтического намерения» [Вагнер 1978, 479]. Ж. Грак пытается претворить в художественном пространстве своих романов вагнерианские мотивы волшебного меча, Святого Грааля, разверзнутой раны, неотвратимой судьбы, бушующей стихии. Все они -ключевые элементы раскрытия писательского замысла, лейтмотивы, вызывающие определенные устойчивые ассоциации и обретающие идейные, символические и психологические глубины.
Однако вступая в область интермедиальной референции, Ж. Грак полностью трансформирует систему вагнерианских образов, придавая им свою, диаметрально противоположную трактовку. Одним из примеров подобной трансфигурации является первый роман писателя «Замок Арголь», названный им самим в «Обращении к читателю» «демонической версией» оперы Вагнера «Парцифаль». Однако было бы ошибкой искать сходство между ними на поверхности: дух обоих произведений - религиозно-гуманистического «Парцифаля» и мрачно-готического «Замка Арголь» - совершенно различен.
Здесь имеет место метатекстуальность, понимаемая в данном случае как контаминация нескольких текстов в виде комментария и критики предшествующего текста. Она ощущается мгновенно, начиная с предисловия, однако полностью воспринята может быть лишь сквозь призму легенды о
Граале и ее писательской трансформации. Грак композиционно и интонационно выстраивает свое произведение таким образом, что в нем не чувствуется исходный смысл мифа: его элементы перегруппированы. Писатель сначала вводит вагнерианские мотивы в повествовательную ткань произведения, а затем искажает их, придавая им противоположный смысл, исходя из соображения, высказанного им в «Обращении к читателю»: «“Парсифаль” означает нечто совершенно иное, во всяком случае не постыдное соборование трупа, к тому же еще слишком явно строптивого» [Грак, 2005, 10].
В предисловии к роману Грак недвусмысленно заявляет о своем намерении оживить дух языческих истоков легенды, очистить ее от всех христианских коннотаций и потому пытается сблизить мифическое с поисками абсолюта в сюрреальном ракурсе. Формулируя, что именно его привлекло в сюрреализме и Артуровском цикле легенд, он уравнивает те «будоражащие ощущения», которые возникали у слушателей средневековых поэм, с теми, которые появляются у современного человека, воспринимающего сюрреализм. Их источник един - это чувство попадания в некий «поток», «ощущения себя во власти сверхъестественного и опьяняющее, переполняющее душу ощущение невиданной возможности» [Gracq 1995,454].
По мнению Грака, «завоевание Грааля представляло собой весьма агрессивное земное, почти ницшеанское устремление к сверхчеловеческому» [Gracq 1995, 330] и в значительной мере упрощало трактовку древней мифологемы. В тот момент, когда Грак утверждает, что «определенный угол зрения возводит сюжет о Граале к истории царя Саула (Саул - первый царь израильско-иудейского государства, воплощение правителя, поставленного на царство по воле бога, но ставшего ему «неугодным») и неморенских царей (Неморенский царь - у римлян жрец Дианы, в роще возле озера Неми, близ Ариции. Им можно было стать, лить убив своего предшественника), а другой, вагнеровский, превращает его в апологию сострадания» [Gracq 1948, 14], он как бы намечает границы смыслового поля, в котором будет размещаться его версия легенды.
Духовный наставник Грака Вагнер, в целом основываясь в своем либретто на романе Вольфрама фон Эшенбаха «Парцифаль» (ок. 1200 1210), также в свою очередь переосмысляет средневековую сагу о Граале, делая акцент на противопоставлении мира христианского благочестия и греховной чувственности. Поэтому если «Парцифаль» Вольфрама фон Эшенбаха можно назвать произведением гуманистическим, то «Парцифаль» Вагнера скорее религиозно-философская музыкальная драма. Композитор опускает детство Парцифаля и читает его имя как «Чистый и Безрассудный» (святой простец) вместо «Пронизывающего Насквозь», как оно звучит у Эшенбаха. Таким образом, у Вагнера высшей добродетелью объявляется целомудрие. Отворачиваясь от древнего, языческого, Вагнер смягчает отношение к христианству. Он «приземляет» образ прекрасной волшебницы Кундри (олицетворение первородного греха и спасительной
силы раскаянья), видя в ней «трагедию чувственности» [Левик 1978, 397]. По сюжету именно Кундри соблазняет короля Амфортаса, который, потеряв целомудрие, становится уязвимым. Тогда Клингсор ранит его копьем и оскопляет себя, чтобы самому не поддаться чувственному. Парцифаль же в опере Вагнера изживает в себе страсти через облагораживание и духовное познание, способное вознести человека в царство духовной любви. Р. Штайнер трактовал это в своих лекциях так: «Парцифаль приносит искупление тем, кто ранее находился в плену у чувственного, и дарует им новый принцип любви» [Штайнер 2009, 84]. В итоге в музыкальной драме Р. Вагнера еще с большей силой, чем в романе Вольфрама фон Эшенбаха, звучит идея поисков Грааля как пути духовного становления.
Объявив с самого начала свой роман трансформацией вагнерианского мифа, Ж. Грак, однако, ничем не обнаруживает присутствие вагнериан-ских мотивов вплоть до шестой главы под названием «Комната». В этой главе главный герой романа Альбер попадает в комнату своего друга Гер-миньена. Грак в форме эксфразиса описывает гравюру, напоминающую «некоторые трудно прочитываемые самые герметические творения Дюрера». На миниатюре запечатлен тот момент, когда Парцифаль дотрагивается священным копьем до тела короля и излечивает его. Одна деталь приковывает внимание Альбера: кровь из раны Амфортаса и то «сверкающее вещество», которое заключено в Граале, схожи. Именно эта деталь и является ключом для расшифровки до сих пор скрытой авторской позиции, предельно концентрированной формой выражения ее содержательно значимых компонентов.
Воссоздавая собственную, трагическую трактовку мифа о Граале, Грак отбрасывает христианскую символику, кажущуюся фундаментальной у Вагнера, и трансформирует на свой лад знаменитый миф. Если у Вагнера рана страдающего короля служит знаком проклятия и обещанием исцеления, то у Грака она становится «знаком желания, знаком его дня и ночи» [Gracq 1948, 120]. Через эту ужасную рану, образно говоря, кровоточит само человеческое существование, а «Грааль является не чем иным, как вечным напоминанием и вечным возвращением к той ране, которую центурион нанес распятому Христу» [Marquet 1972, 57].
Священнодействие поисков Грааля предстает во внутренней легенде произведения в особом свете. Незаживающая рана Амфортаса - символ его «грехопадения» - связана у Вагнера с порочным миром чувственных страстей: «Из нее теперь, в священнейшем храме, /у стража крови Господней, у вождя дружины Христовой -/горячая кровь греха бежит/ вечным потоком порочной страсти, -/ и нет преграды для нее!» [Вагнер]. В романе «Замок Арголь» Грака стигмат напрямую отождествляется с женщиной, олицетворяющей собой одновременно и трагедию чувственности (рану Амфортаса) и высшее духовное совершенство (Чаша Грааля). Грак очень дорожит это идеей: поскольку святая кровь его Грааля идентична крови из раны Амфортаса, то Гейде, «Грааль во плоти», несет в себе самой этот самый стигмат: «Она превращалась в неподвижный кро- вяной столп...; ей казалось, что вены ее были неспособны удержать в себе хотя бы еще на мгновение ужасающий поток этой крови» [Грак 2005, 109].
Изнасилование Гейде Герминьеном становится кульминацией «демонического», те. перевернутого священнодейства. Обнаружив в лесу истекающую кровью девушку, Альбер, воплощающий Парцифаля, не в силах отвести взгляд от «места стигмата Гейде» [Грак 2005, 70], совершает своего рода кровавое причастие, кощунственно искажая христианский миф о спасении: «Закрыв глаза, устами он приник к этому красному фонтану, и капля за каплей по губам его заструилась таинственная и восхитительная кровь» [Грак 2005, 71]. Совершив преступление, Герминьен становится, таким образом, посредником, через которого Альбер, отказываясь от роли искупителя, желающего спасти мир, причащается Святой Крови, заключенной в Гейде, персонифицирующей Святой Грааль. Однако, по мысли автора, соединение противоположных полюсов - Любви и Смерти, Человеческого и Божественного возможно лишь на краткий промежуток времени, поскольку «невыносимо для смертного дышать одним воздухом с богом» [Gracq 1948, 39]. Все герои погибают в конце романа.
Глава «Комната» заканчивается словами «Искупление - искупителю» [Грак 2005, 49]. Это финальные строки Вагнеровского «Парцифаля», венчающие оперу, означающие овладение священным Граалем и очищение мира. У Грака этот девиз приобретает противоположный смысл: он провозглашает постоянство желания, ожидания и вечного возобновления обещания. После многих лет поисков Грааля обнаруживается, что не Грааль ждет искупителя, а сам искупитель принужден просить о приобщении к тайне, к той ужасной ране, которую он наивно полагал возможным излечить. «Нельзя добиться звания Спасителя, оно всегда дается как высший дар» [Gracq 1995, 85], - утверждает Грак.
Этот сознательный отказ автора от принятия какой бы то ни было единой истины характеризует все произведения Грака. В то время как Вагнер соединяет христианство, средневековый миф и романтизм, Грак ставит под сомнение христианизацию Грааля и устремляется к сверхреальному, т.е. к отказу от психологической обусловленности поступков персонажей. Чувственный опыт прошлого его смущает, и он вглядывается в самого себя, ища современное человеческое решение.
Список литературы Грак и Вагнер: пути и мотивы схождения и расподоблений
- Букина Т.В. Вагнерианство в зеркале концепций: от жанровых клише до ментальных моделей // Социология музыки: международная науч. конференция. 2007. URL: http://mconf.blogspot.com/2007/10/blog-post_6410.html (дата обращения 10.11.2018).
- Бодлер Ш. Рихард Вагнер и Тангейзер в Париже // Бодлер Ш. Мое обнаженное сердце: статьи, эссе. СПб., 2013. С. 51-104.
- Вагнер Р. Опера и драма // Вагнер Р. Избранные работы. М., 1978. С. 262-
- Вагнер Р. Парсифаль. Либретто / пер. Вс. Чешихина. URL http://wagner.su/ node/352 (дата обращения 04.07.2019).
- Грак Ж. Замок Арголь. М., 2005.
- Грак Ж. Сумрачный красавец. М., 2003.
- Кастрель В.Д. Литературные проекции оперы Р. Вагнера «Тангейзер» (О. Уайльд, М. Кузьмин) // Новый филологический вестник. 2014. N° 3 (30). С. 5062.
- Левик Б.В. Рихард Вагнер. М., 1978.
- Магомедова М.Д. Символизм и тоталитаризм: от «всенародного искусства» к тоталитарной модели // Контрапункт. Книга статей памяти Г.А. Белой. М., 2005. С. 285-292.
- Махов А.Е. Система понятий и терминов музыковедения в истории европейской поэтики: автореф. дис. ... д. филол. н.: 10.01.08. М., 2007.
- Тишунина Н.В. Западноевропейский символизм и проблема синтеза искусств: опыт интермедиального анализа. СПб., 1998.
- Штайнер Р. Рихард Вагнер и новые поиски Грааля. Ереван, 2009.
- Bedriomo E. Proust, Wagner et la coïncidence des arts. Paris, 1984.
- Сarrière J. Julien Gracq qui êtes-vous? Lyon, 1986.
- Gracq J. Lettrines. Paris, 1988.
- Gracq J. Le Roi-Pecheur. Paris, 1948.
- Gracq J. Oeuvres complètes. Vol. 1. Paris, 1995.
- Marquet J.-F. Au château d'Argol et le mythe hégélien // Cahier de L'Herne. Julien Gracq. Paris, 1972. P. 53-62.
- McLendon. W. Thèmes wagnériens dans les romans de Julien Gracq // French Review. 1968. Vol. 41, № 4. Marion. P. 539-548.
- Pavans J. Wagnérisme // Encyclopaedia Universalis URL https://www.univer-salis.fr/encyclopedie/wagnerisme/ ( дата обращения 05.03.2019)