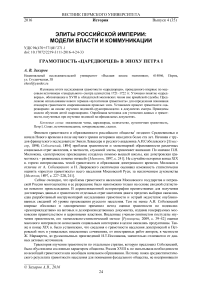Грамотность "царедворцев" в эпоху Петра I
Автор: Захаров А.В.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Элиты российской империи: модели власти и коммуникации
Статья в выпуске: 4 (35), 2016 года.
Бесплатный доступ
Изложены итоги исследования грамотности «царедворцев», проведенного впервые по массовым источникам «генерального» смотра шляхетства 1721-1722 гг. Уточнено понятие «царедворцы», обозначавшее в XVIII в. обладателей московских чинов вне армейской службы. Предложено использование нового термина «аутентичная грамотность» для определения понимания стандарта грамотности современниками прошлых эпох. Установлен процент грамотности «царедворцев» на основе изучения подписей-«рукоприкладств» в документах смотра. Приведены модели обучения детей «царедворцев». Опробована методика для уточнения данных о грамотности, полученных при изучении подписей на официальных документах.
Московские чины, царедворцы, шляхетство, аутентичная грамотность, петр i, сенат, источниковедение, почерковедение, сказки
Короткий адрес: https://sciup.org/147203761
IDR: 147203761 | УДК: 94(470+571)81''271.1 | DOI: 10.17072/2219-3111-2016-4-24-33
Текст научной статьи Грамотность "царедворцев" в эпоху Петра I
Феномен грамотности и образованности российского общества1 позднего Средневековья и начала Нового времени в поле научного зрения историков находится более ста лет. Начиная с трудов французского исследователя Эмиля Левассера и русского академика А.И.Соболевского [ Левассер , 1898; Соболевский , 1894] проблема грамотности и элементарной образованности различных социальных страт населения, в частности, служилой элиты, привлекает внимание. По мнению П.Н. Милюкова, «допетровское просвещение создалось помимо высшей школы, как допетровская грамотность – развивалась помимо низшей» [ Милюков , 1897, с. 241]. Не случайно историки конца XIX в. горячо интересовались темой грамотности и образования допетровского времени. Милюков в отличие от А. Соболевского и Н. Лавровского скептически оценивал взможность статистически оценить «простую грамотность» всего населения Московской Руси, за исключением духовенства [ Милюков , 1897, с. 227–228, 241].
Сейчас очевидно, что проблема грамотности населения Московского государства и петровской России многоаспектна и ее разрешение было невозможно только на основе сводной статистики неясного происхождения. В дореволюционной историографии препятствиями для получения достоверных данных о грамотности отдельных страт населения даже в пределах выборки оказались едва разработанный инструментарий исследования грамотности и острый недостаток опубликованных сведений об уровне просвещения русского населения. Тем не менее А.И. Соболевский впервые обосновал и одновременно применил метод оценки грамотности по подписям-«рукоприкладствам» на актовых и делопроизводственных документах, издавна генерируемых московским правительством и церковными властями. Введенные ученым-лингвистом постулаты изучения грамотности, его «комплексно-статистический метод» [ Румянцева , 2009, с. 39–42] оценки массового материала по нескольким социальным категориям в целом оказались продуктивны. Также в конце XIX в. было установлено, что сведения о грамотности населения допетровской и Петровской эпох в уникальных письменных сочинениях, от иностранных работ авторов, в частности Ж. Маржарета, до русскоязычных произведений И.Т.Посошкова, значительно отличаются от данных актовых источников.
Траектория изучения грамотности по отдельным стратам, которую предложил Соболевский, была обусловлена сословным характером общества. Россия XVIII в. не испытывала необходимости во всеобщей грамотности или всеобщем начальном образовании. Поэтому поиск среднестатистического результата грамотности населения для понимания феодального общества, не воспринявшего
идею всеобщности элементарного образования, должен оцениваться критически.
Подготовительный этап исследования исторического феномена грамотности ранних эпох, как правило, многоступенчат и достаточно трудоемок. Ряд аспектов проблемы может быть решен сейчас лишь приблизительно; таковы, например, динамичность понятия «грамотность» в относительной ретроспективе, достоверное определение численности изучаемой группы, эвристические возможности и репрезентативность данных исторических источников, соотношение исследовательской идентификации и самоидентификации представителей изучаемой страты. Решение проблемы грамотности «царедворцев» в эпоху Петра I в рамках данной статьи имеет предварительный характер, поскольку базируется не на всем сохранившемся материале о шляхетстве. Сравнительные данные по группам шляхетства получены пока на небольшой выборке сведений; некоторая, возможно, незначительная, часть массового материала о «царедворцах» может быть выявлена позже.
Необходимо остановиться и на важнейшем вопросе идентификации изучаемой группы. Термин «царедворцы» в историографии XIX–XX вв. не использовался, но был распространен в литературном языке. «Царедворцами», как и сейчас в повседневном дискурсе, называли абстрактных лиц, близких к царскому двору. В советской историографии в соответствии с концепцией государева двора возникла статичная идентификация московских статусно-чиновных групп и досословной корпорации, основанная на учетно-служебной документации, подчас противоречащей законодательству и самоидентификации людей второй половины XVII в. [ Захаров , 2013, с. 11–24]. Также распространение в научной литературе получили аутентичные для XVII в. синонимы: люди «московских чинов», «московский список» – обозначавшие стольников, стряпчих, московских дворян, жильцов.
В настоящее время границы и состав группы «царедворцев» определяются согласно словоупотреблению этого термина-неологизма в прошлом и обоснованы следующими обстоятельствами. Во-первых, с начала 1670-х гг. русское правительство спорадически начинало именовать «царедворцами» совокупность обладателей московских чинов2: комнатных стольников, стольников, стряпчих, московских дворян, жильцов. Подчеркну, что существенное изменение в семантике термина произошло с началом XVIII в.: в документах законодательства и делопроизводства те же московские чины продолжали обозначаться неологизмом «царедворцы», но только обладатели московских чинов, которые находились вне военной службы. При получении отставки военные чины, записанные прежде в «московский список», вновь «становились» «царедворцами». Во-вторых, это представители служилой группы феодалов, ранжированные поименно по московским чинам в учетно-служебной документации. Они, будучи записанными в боярских книгах, боярских, жилец-ких и прочих чиновных списках, даже спустя годы после выхода Табели о рангах, не теряли и не лишались московских чинов. В-третьих, «царедворцы» как статусная группа, динамичная по составу (пополняемая в том числе отставным офицерством) и рекрутированию на различные «службы», целиком влилась в российское шляхетство. А слово «царедворцы» продолжало оставаться в повседневном обороте.
Петр I для обобщения разноликого служилого слоя, но в более крупном социальном масштабе, использовал неологизм «шляхетство» подобно примеру царя Алексея Михайловича, который обозначил «царедворцами» лишь московские чины. Термин «дворянство» как синоним «шляхетства» не мог возникнуть в первой четверти XVIII в., поскольку дворяне ассоциировались либо с выходцами из провинциального служилого люда (городовыми дворянами), либо с обладателями чина «дворяне московские» из столичной верхушки («царедворцами»). Согласно определению законодателя 1712 г. столичное шляхетство постепенно рекрутировалось из тысячи семей поименно названных «царедворцев», назначенных к переезду из Москвы в Санкт-Петербург [ Доклады, 1883, с. 110–112].
Для определения на службу и канцелярского учета категория «царедворцев» расписывалась по московским чинам. В служебной чиновной пестроте на уровне самоидентификации обнаруживаются инерция и рациональность чиновного начала Московии XVI–XVII вв. Рациональность заключалась в сосуществовании нескольких чиновных систем. «Царедворцы», не получившие офицерского чина, в основном (в 96 %) указывали московский чин3. Самоидентификация происхождения («из царедворцев», из московских чинов) служилых людей и аналогичное правительственное восприятие при назначении «к службам и делам» или в отставку дают основание считать «царе дворцев» и служебно-учетной, и социальной группой4. Их коллективный портрет можно изучать в различных ракурсах.
Грамотность шляхетства эпохи Петра I впервые исследовалась М.Д. Рабиновичем на массовом материале хранящихся в РГВИА «офицерских сказок» 1720–1721 гг., собранным Военной коллегией вне организации смотра [ Рабинович, 1973]. Реконструировать отдельные биографии «царедворцев» и новые институции позволяет документация масштабного смотра российского шляхетства 1721–1722 гг. На смотр шляхетства вызывали «всего государства царедворцев и дворян всякого звания5, отставных офицеров, которые у дел», офицеров, прежде «отпущенных на ваканции» (ПСЗРИ, т. 6, № 3810, 3825), за исключением живших в Астрахани, Сибири; армейских и гарнизонных офицеров. Проживавшим в столичной губернии было велено съезжаться в Санкт-Петербург до конца 1721 г., а всем остальным – в Москву с января 1722 г. Смотр поручался главе новоучрежден-ной сенатской Герольдмейстерской конторе стольнику С.А.Колычеву [ Серов , 2002, с. 60–63], который обязывался составить несколько вариантов чиновных списков, что по итогам смотра сделано не было из-за скорой отставки стольника. Первичный учет приехавших служилых людей фиксировали два документа: записные книги «приездов» и «сказки»6, поданные в «канцелярию ведения Колычева» (она же «канцелярия разборных дел»). Сотрудники Колычева вносили в тетради «приездов» краткие сведения о приехавших на смотр по чинам и датам приезда в канцелярию: возраст, год начала службы, объем дворовладений, адрес остановки в Москве и имя дворовладельца. Служилый обязывался «без указу с Москвы не съезжать», что и удостоверял личной подписью. Более развернутые автобиографические сведения о себе подданый сообщал в сказке, которую непосредственно со слов подателя записывал нанятый писец, а автор сказанных сведений вновь подписывался своеручно.
Слово «сказка» тогда имело одним из наиболее употребительных значений «документ с записью из уст человека сведений о нем по запросу властей». Факт подписания подателем «сказки» недостаточен для подтверждения достоверности сказанного, но подпись позволяет оценить грамотность человека и статистически, и качественно. В сказках факультативно фиксировались сведения о грамотности или обучении несовершеннолетних детей, пояснялись причины, по которым автор не мог подписаться.
Для обозначения понимания современниками XVII или XVIII в. «грамоты» и «грамотности» необходим термин, позволяющий отличить семантику аутентичного понятия грамотности от современного. Поэтому может быть востребовано понятие «аутентичная грамотность» (аутентичное понимание грамотности). Для России на рубеже XVII и XVIII вв., аутентичная грамотность – владение навыками чтения. Причем допуски ошибок в чтении или письме, вероятно, не препятствовали восприятию человека как грамотного. Массовые источники убеждают, что современное понимание грамотности и аутентичная грамотность различались. Детей, проходивших домашний курс обучения, отцы редко аттестовали с помощью формулы, наиболее близкой к нашему пониманию грамотности: «словесному писать и грамоте умеет». Значительно чаще говорилось о недорослях 5– 14 лет так: «учитца росиискои грамоте», «учитца словеснои рускои грамоте» или «учитца грамоте», т.е. чтению. Умение читать и писать А.С.Лаппо-Данилевский считал свидетельством грамотности человека в Елизаветинскую эпоху [ Лаппо-Данилевский , 1897, с. 137-138]7. К сожалению, именно аутентичную грамотность «царедворцев» невозможно оценить репрезентативно – без массовых данных о владении практикой чтения. Судить об их грамотности можно только по канонам более поздней эпохи.
Прочность полотна реконструкции грамотности «царедворцев» обеспечивается исследованием всех сохранившихся «сказок» смотра шляхетства, начавшегося в октябре 1721 г. Сомнительно, что построение выборки данных о просвещенности этой группы было бы рациональнее, чем изучение полного объема сохранившихся источников, поскольку документы смотра полностью не сохранились. Нет и достоверных данных о численности «царедворцев» на начало 1720-х гг. Достоверная статистика «царедворцев» не была известна Сенату, что доказывают служебные списки, подготовленные для первого герольдмейстера С.А.Колычева перед масштабным смотром (табл. 1). Сведения «Росписки московских чинов» 1720 г. и чиновных списков 1721 г. (копий боярского и жилецкого списков 1714 г.) значительно различаются8, хотя сохраняют соотношение чинов.
Привлекая данные «офицерских сказок» 1720 г., можно приблизительно определить, что численность живших к 1721 г. «царедворцев», в том числе обладавших ранее московскими чинами, могла быть около 4 тыс. человек (без солдатско-драгунских «чинов» из жильцов).
К настоящему времени создана база данных, содержащая записи о 1843 чел., идентифициро-ванных9 как «царедворцы», закрепивших лично или через доверенных лиц свои «сказки»10 и записи своих «приездов» на смотр. Для изучения грамотности в базу данных включены все выявленные сведения о «царедворцах», бывших на смотре 1721–1722 гг., и, таким образом, данные примерно о 46% «царедворцев», числившихся в разрядно-сенатских списках.
Таблица 1
Численность «царедворцев» в начале 1720-х годов.
(по данным служебных списков)
|
Московские чины |
Численность «царедворцев» |
|||
|
«Росписка московских чинов» 1720 г. |
Чиновные списки 1721 г. (без умерших и постриженных) |
|||
|
Абс. |
% |
Абс. |
% |
|
|
Стольники комнатные |
– |
34 |
0,6 |
|
|
Стольники |
920 |
23,1 |
1526 |
25,3 |
|
Стряпчие |
564 |
14,2 |
887 |
14,7 |
|
Дворяне московские |
503 |
12,6 |
737 |
12,2 |
|
Жильцы (без нижних, солдатских чинов) |
1998 |
50,1 |
2843 |
47,2 |
|
Итого |
3985 |
100 |
6027 |
100 |
Примечание: Источник – РГАДА. Ф. 286. Оп. 1. Ед. хр. 4, 5, 103
Необходимо, как уже сказано, учесть, что правительство не причисляло к «царедворцам» состоявших на армейской службе военных, несмотря на их давний старомосковский статус. Армейские и гарнизонные офицеры не участвовали в смотре шляхетства 1721–1722 гг., хотя из чиновных перечней «царедворцев» формально никогда не выбывали. Офицеры же, выросшие из московских чинов, выходя в отставку, вновь «зачислялись» в «царедворцы».
Подписи служилых людей не затерялись в бумажной лавине, сопровождавшей бесчисленные петровские смотры. Автографы действительно оказывались в канцелярском смысле «рукоприкладствами». Каждый человек, подававший «сказки», либо его доверенный знакомец или грамотей практически всегда в конце документа выводил пером «руку приложил». Встречаются десятки вариаций подписей, от наиболее частотной «к сей сказке имярек руку приложил» до редко встречающейся «имя, фамилия». Повторяющиеся формулы «рукоприкладства» закономерно вызывают у историков сомнение в действительном отражении умения писать. Однако необходимо иметь в виду, что подписи одной персоны можно обнаружить в иных документах того же времени, предполагавших иную формулу. Например, в записях книги «приездов» она оказалась относительно новой: «к сей записке и слышанию указа имярек руку приложил». У исследователей появляется возможность сверки подписей. А для человека в прошлом не имело смысла11 графически имитировать подпись, не освоив навыков письма, может быть, за исключением краткой формулы «чин-имя-фамилия», особенно часто встречающейся в «офицерских сказках» 1720–1721 гг.
Гипотеза о какой-либо закономерности лексического состава подписи и степени грамотности пока не получает явного подтверждения. Выявлено лишь 8 документов, содержащих двухсловную подпись, которая не всегда указывает на неграмотность, а чаще подчеркивает статус человека, его постоянную практику ведения документации12. Примерно каждая четвертая «сказка» 1721–1722 гг. имеет более чем тринадцатисловную формулу: «к сей сказке и копии13 имярек руку приложил а подлинои указ себе взял», нередки дописки («а ныне не у дел», «а детей нет»). 12 «сказок» были отмечены авторами как собственноручные, не менее двух десятков содержат пространные приписки-автографы.
Для определения корреляции между графикой подписи и грамотностью человека существует методика оценки степени выработанности рукописного почерка, используемая в почерковедческой экспертизе [Манцветова, 2006]. Имеется попытка определить манеру письма и дать оценку навыкам письма без учета физико-возрастных особенностей человека [Мошкова, 2015]. Хотя методика скорописного перьевого почерка XVII–XVIII вв., насколько известно, специалистами почерковедческой экспертизы не разрабатывалась, ее было решено апробировать на данных по «царедворцам». Шесть признаков оценки почерка подобраны так, чтобы исключить смешение почерков больного человека, старого и слабопишущего. Слабовыработанный почерк фиксировался в базе данных при наличии менее трех признаков из шести (1 признак = 1 балл)14. К примеру, 54-летний стольник Борис Дубенский в 1700 г. просил писца написать в челобитной: «стар и от головнои болезни мало вижу и от конного убою переломлена у правой руки выше плеча кость надвое и от того убою рукою владею худа» (РГАДА. Ф. 286. Оп. 1. Д. 7. Л. 218). К удивлению, его подпись сделана правой рукой (6 баллов), а спустя 22 года его же почерк заслуживает максимальной оценкой. 16 человек прибыли на шляхетский смотр, указав своим возрастом более 90 лет, четверо из которых лично подписали «сказку», оцененную не менее чем в 4 балла.
В табл. 2 представлены данные о соотношении числа «рукоприкладств» нескольких, условно выделяемых, категорий «царедворцев», которые заметно различались по числу личных подписей. В таблице указан процент неподписавших сказки и необъявивших причину неподписания. В челобитных 1700 г. несколько человек, просивших подписать документы доверенное лицо, как оказалось позже, умели подписываться, но по каким-то причинам предложили это сделать родственнику или знакомцу в грамотке, т. е. в просительном письме. Жилец Д.И.Борисов просил стряпчего Иван Сечихина, служившего у архиепископа Вологоцкого и Белозерского, «по грамотке ево руку приложил» (РГАДА. Ф. 210. Оп. 15. Д. 57. Л. 164). Эта частная практика доверения, как и вся разрядноприказная «кухня», сохранялась и в 1720-е гг. При частичной сверке сведений «сказок» с материалом книги «приездов» в последней была обнаружена подпись доверенного лица жильца Д.А.Арсеньева, но спустя несколько дней в «сказке» жильца появилось его личное «рукоприкладство» (РГАДА. Ф. 286. Оп. 1. Д. 8. Л. 641 об.; Д. 32, Л. 77 об.). Это говорит о том, что далеко не все неподписанты документов смотра должны восприниматься неграмотными.
Таблица 2
Количество идентифицирующих документов15 «царедворцев» с личными/доверенных лиц рукоприкладствами на смотре шляхетства 1721–1722 годов
|
«Царедворцы», явившиеся на смотр |
Иденти-фициру-ющие документы |
Документы |
||||
|
подписанных лично «царедворцами» |
Не подписанных лично по причине указанной/неуказанной |
|||||
|
Заявивших неумение писать |
возрасте менее 80 лет, умолчание о причине |
болезнь, умолчание о грамотности |
возраст старше 79 лет («дрях- («дряхлые»), умолчание о причине |
|||
|
Комнатные стольники, стольники, стряпчие, дворяне московские (без «новокрещеных») |
919 |
773+1*+2** |
6 |
65 |
43 |
35 |
|
«Новокрещеные» |
16 |
2 |
1 |
5 |
2 |
6 |
|
Жильцы |
908 |
724+3* |
6 |
139 |
15 |
21 |
|
Итого |
1843 |
1505 |
13 |
208 |
60 |
62 |
Примечание: Источник – РГАДА. Ф. 210. Оп. 15. Д. 57; Ф.286. Оп. 1. Д. 3, 7, 8, 9, 32, 39; Ф. 248. Д. 1339, 8104.
*Грамотные, но не подписавшие документы по болезни.
**Грамотные старцы (сведения о грамотности в челобитных 1700 г.).
Причина личного неподписания «сказки» редко оговаривалась доверенным человеком, подписавшим документ по «велению» или «прошению» «царедворца». Только в 12 случаях доверенные прямо указали причины: «грамоте не умеет» или «писать не умеет». «Новокрещеный» стольник князь А.М. Мустафин в октябре 1722 г. просил писца записать его слова: «а грамоте и писать я не умею». 75-летний князь жаловался, что «правое плечо высохло, да у правой руки мизинец свело», поэтому подпись за него поставил «подьячий герольдмейстерских дел» Ф. Сергеев (РГАДА. Ф. 286. Оп. 1. Д. 7. Л. 356 об.). 60 человек сообщили о конкретной болезни, которая с высокой долей вероятности могла препятствовать письму: паралич, ранение руки, слепота, предсмертное состояние. Слепота, глазная болезнь или слабое зрение названы причинами неподписания документа в 25 случаях из 60. Сверх этой последней цифры четверо «сказки» не подписали, но объявили себя грамотными. Так, стольник К.П. Лихарев просил своего родного племянника, служившего матросом на корабле «Нептунус», приписать за него, что «он и сам грамоте умеет и за очную болезнию руки приложить не видит» (РГАДА. Ф. 286. Оп. 1. Д. 9. Л. 1125 об.). Еще 3 жильца вторили ему: «грамоте умеет, а писать не видит». «Грамотой» в подобных примерах названо умение читать. Представление о «стандартах» аутентичной грамотности рубежа XVII и XVIII вв. более известно из сочинений книжников и писцов. Известный монах-книжник Карион Истомин [ Еремин , с.359–360] в 1694 г. в «Полисе, си есть град царства небеснаго» выразил идеал просвещения рифмованно:
Грамматика учит знати глаголати и писати благо.
Грамматику, душе, слыши, писмена в ней изучиши.
Обзри смыслом аз и буки, емли перо в твои руки.
Понимание грамотности различными слоями населения еще нуждается в дальнейшем исследовании.
В базе данных грамотности «царедворцев» выделена категория «дряхлых» – старцев, указавших свой возраст более 79 лет. Или болезнь, или рецидив безграмотности (потеря навыков чтения и письма), или изначальное неумение писать не позволили им лично подписать «сказку». Причины неподписания сказок старцами, вероятно, не назывались, как очевидные. Дело в том, что на смотре 1718 г. они получили паспорт о неназначении «к делам» – своеобразную отставку по неспособности служить, но не по возрасту. Из более ранних источников известно, что среди 174 «царедворцев» были стольники И.П. Арсеньев и И.А. Щепотьев, лично подписавшие челобитные 1700 г. (РГАДА. Ф. 210. Оп. 15. Д. 57. Л. 56–57), а спустя 21 год по возрасту (90 и 80 лет) не оставившие личное рукоприкладство, но и не сообщившие о грамотности. Поэтому при определении доли грамотных старцы и все известившие о болезнях должны исключаться из общего числа «царедворцев», как лица, не сообщившие об умении писать. Необходимо исключить из числа поставивших личные подписи число тех, кто имел слабовыработанный почерк, т.е. 26 человек16, тогда минимальная, достоверно установленная доля неграмотных и имевших, возможно, рецидив безграмотности среди «царедворцев» составит 2,3 %.
Каждый неподписант в возрасте менее 80 лет, не объяснивший доверение подписи другому лицу, мог иметь разные причины неподписания документов, не связанные с неграмотностью. Показателен пример личных подписей в «сказках» смотра 1722 г. 6 стольников возрастом до 52–69 лет. В челобитных 1700 г. они доверили подписи другим лицам (РГАДА. Ф. 210. Оп.15. Д. 57. Л. 64, 107, 139, 148, 152, 169). В 1721–1722 гг. две трети людей почтенного возраста (60–79 лет) могли не объяснять в «сказке» причину доверения подписи знакомцу или родственнику, поскольку уже числились отставными по смотру 1718 г. Поэтому можно полагать, что число лично не подписавших «сказки и приезды» и не сообщивших причины этого составит долю потенциально неграмотных людей.
Таким образом, доля грамотных «царедворцев», имевших чин выше чина жильца, без учета доли «новокрещеных», достигала не менее 92,5%, доля потенциально неграмотных – 7,7 %. Грамотность жильцов17 по аналогичным данным личных «рукоприкладств» составляла не менее 83,4%, на потенциально неграмотных жильцов пришлось 15,8%.
Дифференциация статистики внутри разноликих чиновных групп «царедворцев» связана с разным пониманием грамотности «чинами»-корпорациями. Например, в целом известна грамотность верхушки татарской знати, служившей царю [Беляков, 2011, с. 129–133, 139–140]. Из материалов смотра18 видно, что новокрещеные из татар «царедворцы» могли научиться чтению и письму или только чтению, поэтому считать их овладевшими грамотой наравне с русскими или обрусев- шими «царедворцами» было бы не вполне корректно. Новокрещеные не смогли массово освоить письмо, но очень хорошо учили русской грамоте своих детей. Из 16 явившихся на смотр новокрещеных (с 1680 г.) стольников чтением и письмом владели только 2 человека, но уже 5 их сыновей подписали «сказки» за своих отцов. Уровень грамотности детей новокрещеных должен быть значительно выше, чем у «отцов», поскольку не все недоросли явились на смотр, не представили данные. Указание возраста в округленных числах многими новокрещеными и упущенная возможность подписать «сказку» на родном языке, как это делали иностранцы в офицерских «сказках», вероятно, говорит о незнании ими и родного письма. Крещеные татары, выходцы из бывших «ханств», зачисленные в московские чины до 1680 г., будучи русскоязычными, «показали» более высокую грамотность – около 75%.
Согласно документам смотра 1722 г. все девять «царедворцев», служивших с так называемой «смоленской шляхтой», владели грамотой. Полковник И.М.Потемкин, числившийся стольником «со смоленской шляхтой», был трижды «в службах за полским рубежом и в Варшаве». Он отдал 3 из 5 сыновей: Федора 17 лет, Николая 16 лет и «храмого» Александра 14 лет – учиться в «школу латинского языка, что по указу… и по губернаторскому пашпорту зарубеж Полской позволено» (РГАДА. Ф. 248. Д. 1339. Л. 92–93)19.
В отличие от «царедворцев» другие служилые группы владели грамотой недостаточно. По данным «сказок» одного архивного дела из 69 драгун только 2 человека (2,9%) уверенно подписали сказки, причем 23 драгуна сообщили о «шляхетском» происхождении (РГАДА. Ф. 394. Оп. 1. Д. 283). Из 20 архиерейских дворян 10 собственноручно подписали «сказки», а двое неграмотных учили своих детей (РГАДА. Ф. 394. Оп. 1. Д. 283. Л. 402, 419). Даже неполные данные позволяют обнаружить следующую зависимость: грамотность в группах служилых людей в большей степени коррелируется не с социальным статусом, а с родом занятий.
Для большинства приближенных царя «стандарт» грамотности безусловно повышался, требовалось владение письмом. Вряд ли уместно считать, что скрыть грамотность было выгодно, поскольку «царедворец» мог быть записан в низшие чины до драгуна или кадета. Один из «царедворцев», стряпчий П.М. Карцев, признавался, что «у дел и в посылках нигде не бывал для того что грамоте не умею» (РГАДА. Ф. 286. Оп. 1. Д. 7. Л. 373). Еще в 1690-е гг. можно указать около десятка воевод, за которых подписывались подьячие.
Учение в конце петровского царствования понималось властями весьма широко, от обучения ремеслам и военному делу («у голанских мастеров каменного дела в учениках», «ученик шлюпочного дела», «ученик бомбардирской роты») до обучения «за морем». Любое ученичество воспринималось своеобразным родом службы, которую должны были нести мальчики с десятилетнего возраста, что подтверждается данными смотра. «Царедворцы», объявлявшие своих сыновей старше девяти лет без сообщения сведений об учебе или военной службе, рисковали получить выговор Герольдии: «поставить сына к смотру и дать сказку». Поблажки в этом царем не делались никому. Организаторы смотра, сенаторы, герольдмейстер, другие высшие сановники, за исключением свиты царя и царицы, дипломатов, чиновников Сибири и Астрахани, – все обязывались извещать о себе, об обучении и службе своих детей.
Сохранились «сказки» стольничьих детей: князей А.Д. Голицына, А.М.Гагарина, барона И.П.Шафирова, М.Г.Головкина, графа Е.И.Мусина-Пушкина – содержащие информацию о сроке обучения за рубежом, месте жительства, дворовладении, изучаемых предметах и языках. Другими стольниками изредка указывался профиль обучения: «в онодезии» (геодезия), «в рапельной школе» (фехтование). География школ была не столь широкой: от московской «Навигацкой», петербургской «Академии» (Морской, «Инженерной») до «школы арифметики» в Казани. Русской грамоте обучали, как правило, с 7–8 лет (известно 5 случаев – с 5 лет) с продолжением обучения 2–3 года. Так, сын жильца Я.Ю.Киреевского Василий восьми лет «3 лет20 славеснаму грамате учитца» (РГА-ДА. Ф. 286. Оп. 1. Д. 8. Л. 1019). Наиболее поздний возраст, в котором отмечено домашнее обучение грамоте, – 15 лет. Подтверждаются наблюдения о доминировании домашнего образования детей в семьях и крупных сановников, и малочиновных «царедворцев», несмотря на факты зарубежного обучения высших дворцовых чинов (кравчего, комнатных стольников). Так, у кравчего К.А.Нарышкина сыновья Семен 11 лет и Петр 10 лет «учатца в доме францужескому языку и арифметики, а словесному изучены и писать умеют»; младший сын князя Ю.Ю.Трубецкого двенадцатилетний Алексей «учится в доме французского языка»; «немецким языком и цыфири» зани- мался сын В.С.Нарбекова девятилетний Иван. Дети стольников четырнадцатилетний сын сенатора М.М.Самарина «французкому и немецкому языком выучился, а ружьем владеть за малолетством еще не может»; старший сын С.А.Колычева Петр в 12 лет обучался «немецкому языку и арифметике». Максимальная программа освоения предметов и языков, кажется, была у детей князя И.Ф.Барятинского: князь Александр в 13 лет учился немецкому, французскому, латыни, арифметике, географии, геометрии; а девятилетний князь Сергей всему тому же, кроме латыни. Широкую программу домашнего обучения могли себе позволить наиболее обеспеченные «царедворцы», но занимавшие более скромный статус также отправляли детей по указу «за море». Дети трех стольников и двух спальников вынуждены были содержать своих детей за границей.
Данные об обучении детей представили 7% «царедворцев». Такой небольшой процент обусловлен тем, что их отцы ко времени смотра были достаточно пожилыми. Средний возраст «царедворцев» (без жильцов) в 1722 г. составлял 64 года, жильцов – 56 лет21. Очевидно, что умения читать и писать были сформированы прошлой эпохой – до начала Петровских реформ.
Изучая грамотность петровского шляхетства XVIII в., невозможно обойти вниманием вопросы структуры общества и социальной терминолгии. Неоправданно забытое в историографии понятие «царедворцы» наилучшим образом демонстрирует провокативность «простого» вопроса о наличии сословий в России Петровской эпохи. Различие в понимании социальных страт правительством того времени и историками закономерно и неизбежно, поскольку заложено как минимум на лингвистическом уровне. Ближайшему окружению Петра I была известна высокая вертикальная и горизонтальная мобильность шляхетства и высокая грамотность слоя «царедворцев», активно рекрутируемых на разные виды службы в зависимости от задач правительства и царя, интерес которого выражен в указах и письмах. В именном указе от 25 августа 1713 г. о сборе недоимок объявлялось: «в губерниях выбрать по городам из отставных офицеров и царедворцов и иных чинов людей, какие где есть, добрых правдивых и умных людей, кому б было можно в том верить…» (ПСЗРИ, т. 5, № 2707, с. 52).
Абсолютно точный показатель грамотности «царедворцев», состоявших вне армейской службы, получить невозможно, а известный уровень грамотности офицерства в 95% должен быть перепроверен с помощью новых методик. По данным смотра 1721–1722 гг. установлены предельные границы грамотности: не ниже 92,5 % для высших чинов вне «новокрещеных» и жильцов и не ниже 83,4% для жильцов (за исключением рекрутированных на службу в рядовые чины). Наиболее вероятные причины доверения подписи «царедворцев», портреты доверенных, данные по другим группам шляхетства следовало бы изучить как на материале «генерального» смотра 1721–1722 гг., так и по более ранним источникам. Общий показатель грамотности «царедворцев» и преобладание модели домашнего обучения их детей «грамоте словесному» отражают культурный потенциал слоя «царедворцев», сохраняемого вереницей правителей после Петра I.
Список литературы Грамотность "царедворцев" в эпоху Петра I
- Беляков А.В. Чингисиды в России XV-XVII вв.: просопографическое исследование. Рязань, 2011. 511 с
- Еремин И.П. Карион Истомин//История русской литературы: в 10 т. Т. 2, ч. 2. М.; Л., 1948. С. 355-362
- Захаров А.В. «Государев двор» и царедворцы Петра I: проблемы терминологии и реконструкции службы//Правящие элиты и дворянство России во время и после Петровских реформ (1682-1750 гг.)/отв. сост. Н.Н.Петрухинцев, Л.Эррен. М., 2013. С. 10-44
- Лаппо-Данилевский А.С. Собрание и свод законов Российской империи, составленные в царствование императрицы Екатерины II. СПб., 1897. 144 с
- Левассер Э. Народное образование в цивилизованных странах. СПб., 1897. Т. 1. 452 с
- Манцветова А.И., Орлова В.Ф., Славуцкая И.А. Теоретические (естественнонаучные) основы судебного почерковедения. М., 2006. 443 с
- Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры. СПб., 1897. Ч. 2. 365 с
- Мошкова Л.В. Рукоприкладства первой трети XVI в. как источник по обучению письму: постановка проблемы//Педагогическая наука: генезис и прогнозы развития: Сб. науч. трудов. М., 2014. Т. 1. С. 318-330.
- Рабинович М.Д. Социальное происхождение и имущественное положение офицеров русской армии в конце Северной войны//Россия в период реформ Петра I. М., 1973. С. 133-171
- Румянцева В. С. Грамотность и деловое письмо в России XVII в. (историография, источники, пути исследования)//Церковь в истории России. М., 2009. Сб. 8. С. 39-56
- Серов Д.О. Воронежские губернские администраторы в криминальной истории России первой четверти XVIII в. // Из истории Воронежского края. Воронеж, 2002. Вып. 10. С. 49-63.
- Соболевский А.И. Образованность Московской Руси XVI-XVII вв.: Речь, читанная на годичном акте им. Санкт-Петербургского университета 8 февраля 1892 г. СПб., 1894