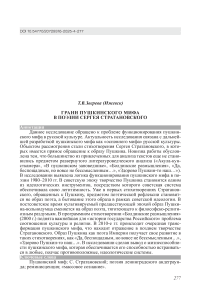Грани пушкинского мифа в поэзии Сергея Стратановского
Автор: Т.В. Зверева
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература и литература народов России
Статья в выпуске: 4 (75), 2025 года.
Бесплатный доступ
Данное исследование обращено к проблеме функционирования пушкинского мифа в русской культуре. Актуальность исследования связана с дальнейшей разработкой пушкинского мифа как «основного мифа» русской культуры. Объектом рассмотрения стали стихотворения Сергея Стратановского, в которых имеется прямое обращение к образу Пушкина. Новизна работы обусловлена тем, что большинство из привлеченных для анализа текстов еще не становились предметом развернутого литературоведческого анализа («Акула-кунсткамера», «В пушкинском заповеднике», «Болдинские размышления», «Да, беспощадным, но вовсе не бессмысленным…», «Здорово Пушкин-то наш…»). В исследовании выявлена логика функционирования пушкинского мифа в поэзии 1980–2010 гг. В советскую эпоху творчество Пушкина становится одним из идеологических инструментов, посредством которого советская система обеспечивала свою легитимность. Уже в первых стихотворениях Стратановского, обращенных к Пушкину, предметом поэтической рефлексии становится не образ поэта, а бытование этого образа в рамках советской идеологии. В постсоветское время культивируемый предшествующей эпохой образ Пушкина-вольнодумца сменяется на образ поэта, тяготеющего к философско-религиозным раздумьям. В программном стихотворении «Болдинские размышления» (2000 г.) поднята важнейшая для «истории государства Российского» проблема соотношения культуры и религии. В 2010-е гг. происходит очередная трансформация пушкинского мифа, что находит отражение в позднем творчестве Стратановского. Образ Пушкина как поэта Империи получает свое развитие в таких стихотворениях, как «Да, беспощадным, но вовсе не бессмысленным…», «Здорово Пушкин-то наш…». В исследовании сделан вывод о жизнеспособности пушкинского мифа, которая обеспечивается его способностью встраиваться в любые, подчас противоположные, идеологические системы.
Пушкинский миф, С. Стратановский, поэзия ленинградского андеграунда, реминисценция, «массовое сознание»
Короткий адрес: https://sciup.org/149150100
IDR: 149150100 | DOI: 10.54770/20729316-2025-4-277
Текст научной статьи Грани пушкинского мифа в поэзии Сергея Стратановского
Данное исследование обращено к проблеме функционирования пушкинского мифа в русской культуре. Актуальность исследования связана с дальнейшей разработкой пушкинского мифа как «основного мифа» русской культуры. Объектом рассмотрения стали стихотворения Сергея Стратановского, в которых имеется прямое обращение к образу Пушкина. Новизна работы обусловлена тем, что большинство из привлеченных для анализа текстов еще не становились предметом развернутого литературоведческого анализа («Акула-кунсткамера», «В пушкинском заповеднике», «Болдинские размышления», «Да, беспощадным, но вовсе не бессмысленным…», «Здорово Пушкин-то наш…»). В исследовании выявлена логика функционирования пушкинского мифа в поэзии 1980–2010 гг. В советскую эпоху творчество Пушкина становится одним из идеологических инструментов, посредством которого советская система обеспечивала свою легитимность. Уже в первых стихотворениях Стратанов-ского, обращенных к Пушкину, предметом поэтической рефлексии становится не образ поэта, а бытование этого образа в рамках советской идеологии. В постсоветское время культивируемый предшествующей эпохой образ Пушкина-вольнодумца сменяется на образ поэта, тяготеющего к философско-религиозным раздумьям. В программном стихотворении «Болдинские размышления» (2000 г.) поднята важнейшая для «истории государства Российского» проблема соотношения культуры и религии. В 2010-е гг. происходит очередная трансформация пушкинского мифа, что находит отражение в позднем творчестве Стратановского. Образ Пушкина как поэта Империи получает свое развитие в таких стихотворениях, как «Да, беспощадным, но вовсе не бессмысленным…», «Здорово Пушкин-то наш…». В исследовании сделан вывод о жизнеспособности пушкинского мифа, которая обеспечивается его способностью встраиваться в любые, подчас противоположные, идеологические системы.
ючевые слова
Пушкинский миф; С. Стратановский; поэзия ленинградского андеграунда; реминисценция; «массовое сознание».
T.V. Zvereva (Izhevsk)
FACETS OF THE PUSHKIN MYTH IN THE POETRY OF SERGEI STRATANOVSKY bstract
A
This study deals with the problem of the functioning of the Pushkin myth in Russian culture. The relevance of the research is connected with the further development of the Pushkin myth as the “main myth” of Russian culture. The study is based on the poems of Sergei Stratanovsky, which are directly related to the image of Pushkin. The novelty of the work lies in the fact that most of the texts included in the analysis have not yet been the subject of extensive literary analysis (“Shark Art Camera”, “In the Pushkin Reserve”, “Boldinsky’s Reflections”, “Yes, merciless, but not at all meaningless...”, “The Great Pushkin is Ours...”). The study reveals the logic of the functioning of the Pushkin myth in poetry in 1980–2010. In the Soviet era, Pushkin's work became one of the ideological instruments through which the Soviet system ensured its legitimacy. Already in Stratanovsky's first poems dedicated to Pushkin, the subject of poetic reflection is not the image of the poet, but the existence of this image within the framework of Soviet ideology. In the post-Soviet period, the image of Pushkin as a free thinker, cultivated by the previous era, was replaced by the image of a poet inclined to philosophical and religious reflection. In the programme poem “Boldinsky Reflections” (2000), the problem of the correlation between culture and religion, which is the most important for the “history of the Russian state», is raised. In the 2010s, another transformation of the Pushkin myth took place, which is reflected in Stratanovsky’s later work. The image of Pushkin as a poet of the empire is developed in such poems as “Yes, merciless, but not at all meaningless...”, “The great Pushkin is ours...”. The study concludes that the viability of the Pushkin myth is ensured by its ability to be integrated into any, sometimes opposing, ideological systems.
s
Pushkin’s myth; S. Stratanovsky; poetry of the Leningrad underground; reminiscence; «mass consciousness».
В истории отечественной словесности творчество Сергея Стратановско-го занимает особое место, поскольку охватывает большой временной период: первые публикации относятся к 1970-х гг., последние стихи вписаны в современный литературный процесс. Поэт никогда не было обойден вниманием критики, а последние годы отмечены еще и рядом научных публикаций, свидетельствующих о возрастающем исследовательском интересе к его имени [Доманский 2025; Зверева 2020a, 2020b; Марков 2022, 2024; Пронин 2024 и т.д.].
Одна из важнейших тем Стратановского как представителя ленинградской филологической школы – смысловой потенциал русской классики, ее диалог с современностью. На примере поэзии Стратановского отчетливо прослеживаются механизмы функционирования пушкинского мифа, встраивание образа Пушкина в различные культурные эпохи и идеологические системы. Впервые вопрос о рецепции пушкинской поэзии в ленинградском андеграунде 1970–1980-х гг. был поставлен В. Марковичем [Маркович 2005]. В настоящей работе объектом развернутого филологического анализа станут стихотворения Стратановского «Акула-кунсткамера», «В пушкинском запо- веднике», «Болдинские размышления», «Да, беспощадным, но вовсе не бессмысленным…», «Здорово Пушкин-то наш…». Актуальность научной темы определяется дальнейшей разработкой пушкинского мифа как «основного мифа» русской культуры.
В советскую эпоху образ Пушкина как борца с политическим режимом – один из идеологических инструментов, посредством которого советская система обеспечивала свою легитимность. Уже в первых «пушкинских стихотворениях» Стратановского предметом поэтической рефлексии становится не образ поэта, а бытование этого образа в рамках советской идеологии. Можно с уверенностью сказать, что именно со Стратановского начинается обнажение механизмов функционирования пушкинского мифа.
Так, в стихотворении «Акула-кунсткамера» (1980 г.) Пушкин расположен в ряду музейных экспонатов – «Петра в железных ботфортах», «цер-берши ангальт-цербстской», «голов турок в спирту» и т.д. Музей как символическое пространство не знает иерархии, демонстрируя непрерывный процесс превращения живого в мертвое. Выхваченные из живого непрерывного потока предметы становятся знаками самих себя, демонстрируя свою мертвую сущность. Стратановский констатирует гибель пушкинского мифа (не случайно стихотворение закачивается словом «смерть»). Однако для понимания авторского замысла важен финал стихотворения – отождествление Кунсткамеры с рыбой-акулой, отсылающее к библейскому мифу о пророке Ионе (Иона была проглочен китом и находился в его чреве три дня). Нахождение внутри утробы символизирует «временную смерть». В соответствии с логикой мифа, смерть непременно связана с рождением, что в свою очередь указывает на веру автора в будущее воскрешение Пушкина.
Тема заточения получит свое дальнейшее развитие в поэтическом триптихе «В пушкинском заповеднике» (1982). Название триптиха возвращает читателя к предшествующему стихотворению – ‘музей’ и ‘заповедник’ близки по своим функциям, являют собой хранилище мертвых вещей. Сходны в этих двух текстах и пространственные образы, связанные с семантикой ‘узничества’, ‘заточения’, ‘несвободы’ («баба казенно-кирпичная, тысячекамерная» и «многокамерная рыба»).
В открывающем цикл стихотворении («Здесь избушки на курьих…») Стратановский изображает праздник поэзии в Михайловском, превратившийся в торг «словом и пивом». Пушкин здесь – жертва «всесоюзной любви», от которой его тайно мечтает избавить автор. Именно автор остается единственным, кто сохраняет живую память о поэте. Санкционированный советской властью образ Пушкина как узника политического режима в интерпретации Стратановского оборачивается образом «гуляки праздного».
Второе стихотворение триптиха является парафразом пушкинской элегии «Вновь я посетил тот уголок земли…»:
Над озером Маленец – тусклый рассвет В привычной лиричности – гнилость И нечего вспомнить и прошлого нет И волны иные не снились
И з а видно думать, вдохнув аромат
Земле заповедной присущий
Как тутошний узник был тайно богат
Прошедшим, сейчасным, грядущим [Стратановский 2019, 61].
Вслед за Пушкиным Стратановский сопрягает категории прошлого и настоящего. Временная структура пушкинской элегии предельно усложнена благодаря сложной оптике – взгляд лирического героя не только воскрешает картины Былого («Вот опальный домик…», «Вот холм лесистый…»), но внутри воскрешенных картин различает «иные берега, иные волны». В результате подобного построения текста не только раздвигаются пространственные границы текста, но и возникает «туннель времени» (структура «воспоминание воспоминания» или «воспоминание в воспоминании»): «Вот холм лесистый, над которым часто // Я сиживал недвижим – и глядел // На озеро, воспоминая с грустью // Иные берега, иные волны …»). В финале прошлое, как это часто бывает в пушкинской элегии, обретает перспективу будущего («Но пусть мой внук // Услышит ваш приветный шум…»).
В свою очередь взгляд героя Стратановского всецело ограничен настоящим, вследствие чего Михайловское воспринимается как «хвойная тюрьма». Лишенный творческой памяти герой-современник обречен смотреть на «тусклый рассвет» и дышать гнилым воздухом озера. Как и в первом стихотворении цикла, Стратановский подспудно вводит тему внутренней свободы – взгляду Пушкина («тутошнего узника») открывается даль времен («прошедшее, сей-часное и грядущее»). В поэтическом триптихе Стратановского прошлое и настоящее как бы меняются местами – положительной семантикой наделено прошлое, в то время как настоящее являет собой образ «тысячекамерной бабы казенно-кирпичной», из утробы которой не в состоянии вырваться герой-современник.
В постсоветскую эпоху происходит переосмысление пушкинского наследия, однако Стратановский уже тогда осознал, что пересмотр ценностей стал лишь очередной сменой идеологических знаков. Через все творчество поэта проходит мысль, что в России исторические и культурные разрывы носят, как правило, мнимый характер, что прошлое, настоящее и будущее теснейшим образом связаны между собой, что постсоветская реальность на деле является изнанкой реальности советской. Именно к этому времени в отечественном литературоведении наметилась христианизация образа Пушкина: культивируемый советской эпохой образ поэта-вольнодумца декабристского толка сменился на образ православного поэта. «Болдинские размышления» (2000 г.) Стратанов-ского вписываются в возникшую на рубеже веков филологическую полемику о Пушкине. В одной из своих статей мы подробно останавливались на анализе этого стихотворения [Зверева 2020a], поэтому обозначим здесь только самые важные тезисы.
Развернутый в стихотворении сюжет о возможной встрече Пушкина и Серафима Саровского, с одной стороны, связан с постмодернистской установкой на «альтернативную историю», с другой – соотнесен с принципами пушкинской поэтики («возможные сюжеты» [Бочаров 1990; Лотман 1995] или «сюжетная полифония» [Чумаков 1981]).
Где-то возле Сарова, в верстах сорока от меня
Некий старец живет, почитаемый многими здесь
В том числе и дворянством Съездить что ли к нему?
Но зачем? На каком языке
С этим старцем молитвенным, прозорливцем великим, аскетом
Говорить мне, поэту? [Стратановский 2019, 154]
Гипотеза о «встрече» / «не-встрече» Пушкина и Серафима Саровского была в свое время высказана Н. Бердяевым [Бердяев 1989, 146]. Вслед за Бердяевым Стратановский поднимает важнейшую проблему соотношения культуры и религии – сфер, традиционно в России тяготеющих друг к другу и одновременно друг от друга отталкивающихся. Оппозиция светский / святой («Светский я человек / Он святой человек») подчеркивает пропасть, разделяющую Поэта и Праведника. Решающей, в конечном итоге, является разность «языков», на которых говорят герои. При этом, в «Болдинских размышлениях» функцией провидения наделен и старец («прозорливец великий») и поэт («приоткроем в грядущее дверь»), а «русская земля» хранима как божественными молитвами, так и поэтическим Словом.
Последняя строфа являет собой поэтическую декларацию:
Делай дело свое за столом, в кабинете рабочем Из трагедии Вильсона кончить пора перевод Сцены той, где зачинщика оргий, певца Обличает священник [Стратановский 2019, 155].
В финальном фрагменте угадывается цитата из «Размышлений» Марка Аврелия («Делай, что должен, и свершится, чему суждено»). Пушкин уходит от соблазна перерешить собственную судьбу и остается там, где должен пребывать Поэт, – за своим рабочим столом.
В последующих за «Болдинскими размышлениями» стихотворениях, относящихся к 2010-м гг., Стратановский ведет речь от лица «ролевого героя». Если в советскую эпоху образ Пушкина конструировался властью, то теперь о Пушкине начинает рассуждать «массовый человек» или «человек толпы»:
Да, беспощадным, но не бессмысленным вовсе Был русский бунт, и какая была б безнадега, Если б все мужики как Савельич любили сердечно
Своих жизней хозяев [Стратановский 2019, 202].
В «Капитанской дочке» Пушкин пытался преодолеть трагический раскол между дворянским и народным мирами, апеллируя к христианскому милосердию. В романе воссоздана целая система «авторских зеркал», предельно усложняющих картину мира и стирающих противоположность между полюсами. «Человек толпы» Стратановского (не случайно снижение лексики, например, в слове «безнадега») вступает в спор с Пушкиным, не соглашаясь с утверждением поэта о «бессмысленности» русского бунта. Смысл русского бунта видится в том, что «массовый человек» преодолевает в нем свою малость и становится соучастником Большой истории.
В 2010-е гг. происходит окончательный слом идеологической парадигмы, следствием чего стала очередная трансформация пушкинского мифа: за поэтом-вольнодумцем окончательно закрепился статус поэта-государственника. Стихотворение Стратановского «Здорово Пушкин-то наш…» написано по следам пушкинского послания «Клеветникам России». Как известно, пушкинская реплика на события польского восстания вызвала неоднозначную реакцию современников. Об этом стихотворении много спорили и спорят, и сегодня оно по-прежнему находится в сфере напряженных научных дискуссий [Анненкова 2022; Орехов 2019; Широкова 2022] и т.д.
Взгляды Пушкина на современную ему Россию и проводимую ею внешнюю политику были крайне сложными. Признавая, что в отношениях близлежащих государств-соседей не может быть окончательно правых и виноватых, поэт призывал Европу не вмешиваться в «давний спор», дав возможность славянам самим решать свои отношения. Для поэта было важно разобраться в злободневных проблемах, корни которых уходили в далекое прошлое. «Польское» стихотворение Пушкина подводило читателя к мысли, что подавление польского мятежа со стороны российской власти – это не месть за прошлые обиды («Мы не сожжем Варшавы их; / Они народной Немезиды / Не узрят гневного лица»), а следствие исторической логики. Таким образом, политическая позиция Пушкина основывалась на убеждениях, вызревших на почве исторических фактов. Совпадение этих внутренних убеждений с позицией власти было обусловлено объективными условиями, а не результатами казенной пропаганды или корыстолюбием, в чем, как известно, упрекнул Пушкина А. Мицкевич.
В стихотворении «Здорово Пушкин-то наш…» авторский сарказм направлен не столько на текущую политическую ситуацию, сколько на массовое сознание, проповедующего идею противостояния. Оторванное от конкретного исторического контекста стихотворение «Клеветникам России» стало одним из идеологических аргументов, который сегодня повсеместно используется в полемике между «консерваторами» и «либералами», «почвенниками» и «западниками». Показательно, что Стратановский заключает текст в кавычки, т.е. демонстративно приписывает данное высказывание «чужому сознанию», дистанцируясь от него:
«Здорово Пушкин-то наш клеветникам-русофобам,
Либерастам там разным…
О чем, мол, шумите, витии, И чего, мол, хотите…» [Стратановский 2019, 353]
В своем стихотворении Пушкин говорил о ненависти к России и принципиальном неприятии проводимой Россией политики со стороны европейских государств. Между тем, «ролевой герой» Стратановского исходит из идеи избранности русского народа, которому завидует весь мир. Только через ощущение собственного превосходства он обретает собственную значимость – нескрываемое торжество его интонации связано с ощущением победы над всем миром. Тем самым Страта-новский в очередной раз обнажает механизмы присвоения пушкинского текста, показывая, как искажается сложная диалектика исходной авторской мысли.
Говоря об истории изучения Пушкина, один из исследователей-пушкинистов обозначил ее как «драму непонимания» [Гуревич 2015]. Некоторая резкость этого высказывания определяется тем, что исследователь изначально отказал мифу в праве на существование. В действительности, именно эпохальная оптика опре- деляет константы восприятия того или иного культурного образа. Способность пушкинского мифа трансформироваться и изменять свои смысловые границы во времени свидетельствует об его исключительной жизнеспособности. Речь идет не столько о «драме непонимания», сколько о том, что каждая эпоха выбирает «своего Пушкина», присваивая себе те или иные грани его творческого наследия.