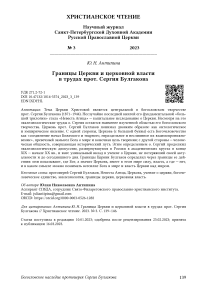Границы церкви и церковной власти в трудах прот. Сергия Булгакова
Автор: Антипина Ю.Н.
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Богословское наследие протоиерея Сергия Булгакова
Статья в выпуске: 3 (106), 2023 года.
Бесплатный доступ
Тема Церкви Христовой является центральной в богословском творчестве прот. Сергия Булгакова (1871-1944). Неслучайно последней книгой его фундаментальной «большой трилогии» стала «Невеста Агнца» - капитальное исследование о Церкви. Несмотря на это экклезиологические труды о. Сергия остаются наименее изученной областью его богословского творчества. Церковь прот. Сергий Булгаков понимал двояким образом: как онтологическое и эмпирическое явление. С одной стороны, Церковь (с большой буквы) есть Богочеловечество как «соединение начал Божеского и тварного, нераздельное и неслиянное их взаимопроникновение», превечный замысел Бога о мире и конечная цель творения; с другой стороны - человеческая общность, совершающая исторический путь. Этим определением о. Сергий продолжил экклезиологическую дискуссию, развернувшуюся в России в академических кругах в конце XIX - начале XX вв., и внес уникальный вклад в учение о Церкви, не потерявший своей актуальности и до сегодняшнего дня. Границы Церкви Булгаков определил через границы ее действия: они показывают, где Бог, а значит Церковь, имеет в этом мире силу, власть, а где - нет, и в каком смысле можно понимать всесилие Бога в мире и власть Церкви над миром.
Протоиерей сергий булгаков, невеста агнца, церковь, учение о церкви, богочеловеческое единство, экклезиология, границы церкви, церковная власть
Короткий адрес: https://sciup.org/140301635
IDR: 140301635 | УДК: 271.2-72-1 | DOI: 10.47132/1814-5574_2023_3_139
Текст научной статьи Границы церкви и церковной власти в трудах прот. Сергия Булгакова
KHRISTIANSKOYE CHTENIYE [Christian Reading]
Scientific Journal
Saint Petersburg Theological Academy Russian Orthodox Church
No.3 2023
Yulia N. Antipina
The boundaries of the Church and Church Authority in the Writings of Fr. Sergius Bulgakov
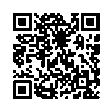
UDK 271.2-72-1
EDN IXDYHL
Ведущие русские церковные мыслители на рубеже XIX-XX вв. считали недостаточным катехизическое определение Церкви как «от Бога установленного общества людей, соединенных православной верой, Законом Божиим, священноначалием и Таинствами» (1823) (Филарет Дроздов, 2013, 64). Согласно катехизису митр. Филарета (Дроздова; 1783–1867), существует «видимая» Церковь, к которой принадлежат «все православные христиане, живущие на земле», и Церковь «невидимая», включающая всех, «скончавшихся в вере и святости» (Филарет Дроздов, 2013, 65). Первую попытку преодолеть представление о Церкви как «человеческом обществе верующих», существующем ради «единой власти, взаимных нужд и общей пользы», делает сам митр. Филарет, параллельно предлагая альтернативное определение Церкви как «союза единой жизни», в котором «все мы, под Главою Христом, едино тело есмы» (Филарет Дроздов, 2007, 183–184).
Современник митр. Филарета А. С. Хомяков (1804–1860) утверждал, что церковным основанием является «Божественный дух братства, завещанный от Спасителя апостолам и всем христианам» (Хомяков: По поводу брошюры г. Лоранси , 1995, 75), который созидает Церковь как живую соборность, «единство во множестве» (Хомяков: О значении слов «кафолический» и «соборный» , 1995, 279). Утверждая, что «Церковь не есть множество лиц в их личной отдельности, но единство Божией благодати, живущей во множестве разумных творений, покоряющихся благодати» (Хомяков, 1995: Церковь одна , 40), Хомяков вводит мистическое измерение в определение Церкви. Он также различает «видимое» и «невидимое» явление Церкви, однако определяет их иначе, чем митр. Филарет: «Видимое ее проявление содержится в таинствах; внутренняя же жизнь ее в дарах Духа Святого в вере, надежде и любви. <…> Внешнее единство есть единство, проявленное в общении таинств; внутреннее же единство есть единство духа» (Хомяков: Церковь одна , 1995, 49).
Развитием определения церкви как «союза единой жизни со Христом» являлась также формулировка Н. П. Аксакова (1848-1909), который говорил, что Церковь — «живой, организованный союз, зиждущийся на вере, действующей любовью» (Аксаков, 1905, 9).
Развернувшаяся дискуссия была поддержана и продолжена в академических кругах. Так, протопр. Евгений Аквилонов (1861–1911) в своей первой диссертации «Церковь, научные определения Церкви и апостольское учение о ней как Теле Христовом» (1894) поставил перед научным богословским сообществом проблему недостаточности существующего определения Церкви: «Церковь невозможно определять как только общество или собрание верующих с особыми, принадлежащими ему свойствами и признаками, с правами и обязанностями, средствами и целями, видоизменяющимися сообразно с тремя главными христианскими вероисповеданиями, потому что из идеи общества или собрания верующих невозможно вывести понятия ни о существе и свойствах Церкви, ни о церковной организации и христианской жизни» (Аквилонов, 1894, 229). Профессор Санкт-Петербургской духовной академии А. Л. Ка-танский (1836–1919) высоко оценил диссертацию и подтвердил, что «автору удалось доказать несостоятельность обычного определения Церкви» (цит. по: [Флоровский, 2009, 533]), а еп. Виссарион (Нечаев; 1823-1905), рассматривавший диссертацию со стороны вероучительной благонадежности, предложил исправить определение Церкви в катехизисе. Протопресвитер Евгений Аквилонов предлагал, основываясь на богословии ап. Павла, называвшего Церковь «Телом Христовым», пользоваться применительно к Церкви выражениями «религиозное братство всего человечества» (Аквилонов, 1894, 21) и «Богочеловеческий организм» (Аквилонов, 1894, 254). По мнению митр. Владимира (Сабодана), ректора Московской духовной академии, диссертация Аквилонова «ознаменовала окончательный выход русского богословия из двухсотлетнего плена подражания Западу и поворот к православной святоотеческой традиции» (Владимир Сабодан, 1980, 164).
Дальнейшая разработка определения Церкви в богословских кругах была представлена магистерской диссертацией сщмч. Илариона (Троицкого; 1886–1929) «Очерки из истории догмата о Церкви» (1912), в которой он определял Церковь как «благодатное соединение возрожденных Богочеловеком людей в союз любви» (Троицкий, 1912, 6). Священномученик Иларион подчеркивал сверхъестественный характер устроения Церкви: «Чтобы вступить в Церковь, нужно родиться свыше, родиться от воды и Духа, нужно быть рожденным от Духа (Ин 3:5–6)» (Троицкий, 1912, 5). Он отвергал учение о «невидимой церкви» (как «церкви духовной», т. е. в том значении, которое ей придавал А. С. Хомяков) (Троицкий, 1912, 15, 233–234), считая его протестантским искажением вероучения, и называл таинства (в первую очередь Евхаристию) «средоточием мистической жизни Церкви» и «таинственным центром единства церковного» (Иларион Троицкий, 2004, 506)1.
Вследствие исторической катастрофы, совершившейся в России в ходе революционных событий 1917 г., разработка экклезиологической проблематики перешла в России в практическую плоскость церковной жизни, тогда как теоретическая дискуссия продолжилась в трудах богословов русского зарубежья2.
Определение Церкви в трудах прот. Сергия Булгакова
Отец Сергий Булгаков предложил собственное определение Церкви. Он выявил ее мистическое измерение, не отождествляя его с сакраментальной жизнью Церкви3, и при этом предложил новое соотношение видимой и невидимой Церкви. По мнению о. Сергия, понятиям «невидимая» и «видимая» Церковь, в том значении, которое им придавал А. С. Хомяков, соответствуют понятия «мистическое» и «эмпирическое измерение Церкви». По мнению о. С. Булгакова, мистическое измерение Церкви связано с ее укорененностью в «вечности Божией» (Булгаков, 2005, 272). Церковь мистическая есть Божественное установление и имеет предвечное основание: «Учение Слова Божия о Церкви как Теле Христовом, как храме Духа Святого, как Жене и Невесте Агнца, вообще вся церковная онтология, имеет дело с предвечным основанием ее в небесах и с ее силой, раскрывающейся в творении, в человечестве» (Булгаков, 2005, 287).
Отец Сергий Булгаков предлагал уникальное «трехмерное» видение мистического измерения Церкви, согласно которому «вертикально» Церковь является «причастностью к Божественной жизни», в которой Церковь есть «ее (Божественной жизни. — Ю. А. ) самооткровение», а «горизонтально» Церковь расширяет свои границы до границ творения и за его пределы так, что «границы Церкви мистически или онтологически совпадают с границами силы боговоплощения и Пятидесятницы, каковых вообще не существует» (Булгаков, 2005, 287). Третьим измерением является временная перспектива. В пределах доисторического времени Церковь проявляется в образе райском, в историческом времени — в образах ветхозаветной и новозаветной Церкви, в эсхатологическом — стремится к завершению и претворению Себя в Божественную полноту, когда «Бог будет все во всем» (1 Кор 15:28).
В этом булгаковском трехмерном определении Церкви через определение границ ее действия преодолевается разрыв между ее мистическим содержанием и историческим (эмпирическим) проявлением: «Церковь как общество, установление, организация — „видимая“ или эмпирическая Церковь, не вполне совпадает с Церковью как Богочеловечеством, ее ноуменальной глубиной, хотя с нею и связана, ею обосновывается, ею проникается» (Булгаков, 2005, 293). Отец Сергий Булгаков говорил о том, что эмпирическая Церковь значительно уже, чем Церковь мистическая, однако качественно она есть не просто «богоустановленное общество» или «общество верующих людей», но «Богочеловечество, как Тело Христово и храм Духа Святого™ соединение начал Божеского и тварного, нераздельное и неслиянное их взаимопроникновение… она есть… практически синергизм, подаяние Божественных даров и принятие их» (Булгаков, 2005, 283). Так о. С. Булгаков определял единство Бога и человека в Церкви. Булгаковское выражение «богочеловечество» раскрывает свое значение в таком синонимическом ряду, как «богочеловеческое единство», «богочеловеческое действие», «богочеловеческий синергизм», указывая на динамический характер взаимообщения Бога и человека в истории, а именно на то, что в ходе исторического развития мир меняется под воздействием Церкви.
Говоря о Церкви как богочеловеческом единстве, о. Сергий подчеркивал содействие Бога и человека. Он утверждал, что Церковь как Богочеловечество «есть синергизм, причем Божественное начало проникает и приникает (курсив мой. — Ю. А.) к человечеству, человеческое же возводится к Божественному» (Булгаков, 2005, 283). Термин «синергизм» использовался в богословии до о. С. Булгакова, и в этом смысле о. Сергий мыслил вполне традиционно. Однако если раньше термин использовался для обозначения совместного действия Бога и человека в деле спасения человека, то о. С. Булгаков использовал этот термин по отношению к Церкви. Для него принципиально важно, что богочеловеческий синергизм не означает тождественности Бога и человека: «Образ Божий в человеке надо понимать™ как некоторое повторение, которое ни в каком случае не есть тожество с Первообразом, напротив, непрехо-димо от него отличается, но в то же время существенно ему причастно» (Булгаков, 2008, 378-379)4. Исходя из предложенного о. Сергием определения Церкви как Бого-человечества следует, что Божественное и человеческое основание ее неразрывно связаны, хотя и не слитны.
Предназначение Церкви о. Сергий мыслил шире, чем его современники, в том числе не ограничивал предназначение Церкви сотериологическими задачами и отрицал, что Боговоплощение объясняется исключительно грехопадением Адама и, таким образом, носит причинный, а значит, случайный характер. Когда о. Сергий говорил, что Церковь является «основой творения, внутренней его целепричиной», то имел в виду, что, будучи сотворенным, мир призван преодолеть разрыв между Богом-Творцом и своей тварностью. В становлении Церкви как Богочеловечества, по мнению о. Сергия, достигается «дальнейшая задача в творении мира — преодолеть и саму его тварность, сделать творение уже не-творением или сверх-творением, его обожить» (Булгаков, 2000, 365).
Определение церковных границ и границ церковной власти
Булгаковское определение Церкви, как мы видим, происходит через обозначение границ ее действия. Границы Церкви показывают, где Бог, а значит Церковь, имеет в этом мире силу, власть, а где — нет, и в каком смысле можно понимать всесилие Бога в мире и власть Церкви над миром.
Власть Церкви как Богочеловечества реализуется в отношении мира (Бога — по отношению к миру, человека — по отношению к миру) и в отношении самой себя (новозаветного народа Божьего). С одной стороны, власть Церкви как новозаветного народа Божьего обращена внутрь себя, распространяется на церковный народ и внутрицер-ковную жизнь. Внутри Церкви церковная власть реализуется как служение дарами Духа — харизмами. В Писании перечислены некоторые из них, однако перечень этот можно воспринимать как неполный, так как многообразие даров, по мнению о. Сергия, определяется нуждами Церкви. Сравнивая отрывки, перечисляющие дары Духа, мы находим сходно повторяющуюся иерархию этих даров. Так, харизма пророческая стоит на первом месте, за ней чаще всего следует харизма апостольства или учительства, а харизма говорения иными языками или епископская харизма управления обычно замыкают список. Таким образом, границы церковного служения определяются действием в Церкви других служений. Единство Духа в многообразии его даров проявляется в том, что действие любой харизмы в Церкви определяется как власть любви, то есть власть служения. Границ власти любви не существует, как не существует границ служения, если служение и любовь понимать как жертвенную самоотдачу. Иначе можно сказать, что власть любви может быть ограничена лишь пределами самой любви.
Новозаветная Церковь обращена к миру, который имеет призвание стать Церковью, но эмпирически еще не выявляет Церковь в полноте. Отец Сергий Булгаков утверждал, что в своем мистическом измерении Церковь распространяется на все человечество: «все люди принадлежат к человечеству Христову, и… в этом смысле и все человечество принадлежит Церкви» (Булгаков, 2005, 287), и, более того, «Церкви принадлежит все мироздание, которое есть ее периферия, космический лик» (Булгаков, 2005, 288). В том же ключе высказывался о Церкви Н. А. Бердяев: «Церковь есть все, вся полнота бытия, полнота жизни мира и человечества, но в состоянии охристов-ления и облагодатствования… в Церкви растет трава и цветут цветы. Церковь есть охристовленный космос. <…> Церковь может быть определена как красота, подлинно бытийственная красота» (Бердяев, 1994, 210-211). Границы церковной власти, распространяющейся вовне, определяются ее ответственностью за преображение, об о жение мира. В свете Нового Завета это призвание Церкви приобретает характер духовной борьбы за воцарение Христа в душах людей. Основание силы и власти Церкви в мире — это Божественное откровение, призыв Духа, пророчество о мире. Хотя все люди потенциально принадлежат человечеству Христову и поэтому Богочеловече-ству — Церкви, каждый человек имеет свободу признавать или не признавать власть Бога, послушаться или не послушаться призыву Духа, входить или не входить в Церковь. По словам прот. Павла Адельгейма, «Христос никому не завещал обладания человеком, его личностью, его жизнью и судьбой, его совестью и свободой. <…> Такую власть Бог не оставил Себе Самому, даровав человеку абсолютную свободу выбора:
свободу нравственного выбора, свободу жить или умереть» (Адельгейм, 2003, 47). Поэтому в своей обращенности к миру власть Церкви ограничена совершающимся явлением Пятидесятницы: потенциально границ этих не существует, а эмпирически границы эти полагаются в душах людей, принимающих (или не принимающих) откровение Духа.
Подводя некоторый итог, можно отметить внешнее и внутреннее понимание границ Церкви и церковной власти в трудах прот. Сергия Булгакова. Граница эта проходит, с одной стороны, между Церковью, как оцерковленным миром, и миром, еще не покорившимся действию Духа, и граница эта определяется свободой человека. С другой стороны, вопрос о границах церковной власти связан с ее внутренней жизнью, с проблемой власти внутри Церкви. Границы внутренние определяются действием Божественных харизм (Божественных даров) в их иерархическом соотношении и соподчинении.
Список литературы Границы церкви и церковной власти в трудах прот. Сергия Булгакова
- Адельгейм (2003) — Адельгейм П., прот. Догмат о Церкви в канонах и практике. Псков, 2003. 235 с.
- Афанасьев (2010) — Афанасьев Н., протопр. Церковь Духа Святого. Киев: QUO VADIS, 2010. 480 с.
- Аквилонов (1894) — Аквилонов Е, протопр. Церковь, научные определения Церкви и апостольское учение о ней как Теле Христовом. СПб., 1894. 254 + 32 + 90 с.
- Аксаков (1905) — Аксаков Н.П. Канон и свобода. СПб., 1905. 14 с.
- Бердяев (1994) — Бердяев Н.А. Философия свободного духа. Проблематика и апология христианства. М.: Республика, 1994. 480 с.
- Булгаков (2000) — Булгаков С., прот. Агнец Божий. М.: Общедоступный православный ун-т, 2000. 464 с.
- Булгаков (2005) — Булгаков С., прот. Невеста Агнца. М.: Общедоступный православный ун-т, 2005. 655, [1] с.
- Булгаков (2008) — Булгаков С.Н. Свет Невечерний. Созерцания и умозрения. СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2008. 640 с.
- Воззвание (1918) — Воззвание Священного Собора Православной Российской Церкви к православному народу по поводу декрета о свободе совести, 27 января (9 февраля) 1918 г. // Церковные ведомости. 1918. № 3/4. С. 19-20.
- Иларион Троицкий (2004) — Иларион (Троицкий), сщмч. Единство Церкви и Всемирная конференция христианства // Иларион (Троицкий), сщмч. Творения. М.: Сретенский м-рь, 2004. Т. 3. С. 495-540.
- Патриарший призыв (1918) — Патриарший призыв пастырям Церкви — мужественно сносить испытания, 30 января (12 февраля) 1918 г. // Церковные ведомости. 1918. № 5. С. 2-4.
- Послание (1917) — Послание патриарха Тихона о вступлении на патриарший престол Православной Российской церкви, 18 (31) декабря 1917 г. // Церковные ведомости. 1918. № 1. С. 1-2.
- Послание (1918)—Послание святейшего Патриарха, 19 января (1 февраля) 1918 г. // Церковные ведомости. 1918. № 2. С. 11-12.
- Троицкий (1912) — Троицкий В.А. Очерки из истории догмата о Церкви. Сергиев Посад, 1912. 575 с.
- Филарет Дроздов (2007) — Филарет (Дроздов), митр. 161. Слово в день священного венчания и помазания на царство Благочестивейшего Государя Императора Николая Павловича всея России // Филарет (Дроздов), митр. Слова и речи. Т.ГУ: 1836-1848гг. М.: Новоспасский м-рь, 2007. С. 181-187.
- Филарет Дроздов (2013) — Филарет (Дроздов), митр. Пространный христианский катехизис православной кафолической восточной церкви. М.: Сибирская благозвонница, 2013. 158 с.
- Хомяков: О значении слов «кафолический» и «соборный» (1995) — Хомяков А. С. О значении слов «кафолический» и «соборный» // Хомяков А. С. Сочинения богословские. СПб.: Наука, 1995. С. 273-280.
- Хомяков: По поводу брошюры г. Лоранси (1995) — Хомяков А.С. По поводу брошюры г. Лоранси // Хомяков А. С. Сочинения богословские. СПб.: Наука, 1995. С. 57-105.
- Хомяков: Церковь одна (1995) — Хомяков А. С. Церковь одна // Хомяков А. С. Сочинения богословские. СПб.: Наука, 1995. С. 39-56.
- Владимир Сабодан (1980) — Владимир (Сабодан), архиеп. Экклезиология в русском богословии // Богословские труды. № 21. 1980. С. 157-169.
- Кочетков (2019) — Кочетков Георгий, свящ. Тайны и таинства человека и Церкви: опыт современной мистагоги первой ступени: пособие для мистагогов: в 2 ч. М.: Свято-Филаретовский православно-христианский ин-т, 2019. 348 с.
- Флоровский (2009) — Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. М.: Ин-т русской цивилизации, 2009. 848 с.
- Цвален (2016) — Цвален Р.М. Тринитарная концепция личности у Николая Бердяева и Сергея Булгакова // История философии. 2016. Т. 21. № 1. С. 151-159.