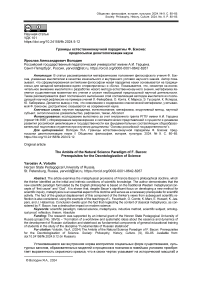Границы естественнонаучной парадигмы Ф. Бэкона: предпосылки деонтологизации науки
Автор: Володин Я.А.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 9, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются метафизические положения философского учения Ф. Бэкона, указанные мыслителем в качестве изначального и внутреннего условия научного знания. Автор показывает, что сформулированная английским философом новая парадигма науки основывается на традиционных для западной метафизики идеях «первопричины» и «Бога». Показывается, что, несмотря на исключительное внимание мыслителя к разработке нового метода естественнонаучного знания, метафизика является существенным моментом его учения и служит необходимой предпосылкой научной деятельности. Также рассматривается факт постепенного вытеснения этой составляющей взглядов мыслителя из последующей научной рефлексии на примере учений Л. Фейербаха, О. Конта, К. Маркса, Э. Гуссерля, К. Ясперса, Ю. Хабермаса. Делается вывод о том, что невнимание к содержанию классической метафизики, учитываемой Ф. Бэконом, деструктивно сказывается на современной науке.
Научная парадигма, естествознание, метафизика, индуктивный метод, научный субъект, онтологическое доказательство, рефлексия, теизм, абсолют
Короткий адрес: https://sciup.org/149146466
IDR: 149146466 | УДК: 101 | DOI: 10.24158/fik.2024.9.12
Текст научной статьи Границы естественнонаучной парадигмы Ф. Бэкона: предпосылки деонтологизации науки
St. Petersburg, Russia, ,
Установившееся как внутренняя норма восприятие социальных форм существования, культурных канонов, образовательных моделей и процессов в познании в новейших условиях приобретает выраженность серьезного кризиса, что в своих чертах указывает на исторический масштаб и
значение. Готовые комплексы идей, в границах которых ранее обозначались проблемы и возникало понимание явлений, в новых обстоятельствах утрачивают аналитический и эвристический потенциал. Трудность вызывают некогда ясные феномены ‒ природа социальности, онтологические и эпистемологические основания образования, методы научного поиска. Возрастающая дифференциация знаний, увеличивающееся количество дисциплин размывают границы научных областей, не позволяя создать единый образ познаваемого мира. Социология, политология, экономика утрачивают свою предметность: в большей степени описывают и объясняют собственные теоретические построения. В свою очередь естествознание, имеющее эмпирически достоверные и исторически определенные объекты изучения, вовлекается в не связанные с наукой процессы, становится медийно-информационным и политическим фактором. Известный афоризм «знание -сила» неожиданно раскрывается именно в «силовом» содержании. Требуется глубокая философская рефлексия духовных оснований переживающей кризис и подходящей к завершению эпохи.
Разговор о кризисе новоевропейской научности к настоящему времени имеет значительную предысторию. Критика текущего состояния науки и попытка определения верных гносеологических оснований были осуществлены Э. Гуссерлем еще в начале прошлого века на фоне катастрофы в классической физике, попытавшейся создать единую физико-теоретическую картину мира, способную объединить явление электромагнетизма, законы термодинамики и механику Ньютона. Ответом на испытанный естественнонаучным сознанием шок были борьба с психологизмом и феноменологическая программа переустройства пошатнувшихся в авторитете наук (Гуссерль, 1986). В рамках действующей научной парадигмы произведенная по всем академическим стандартам редукция стала новым импульсом для поиска в различных областях знания, вновь утверждая в рационалистических основаниях субъект познания.
Главным материалом Э. Гуссерля в осмыслении неблагополучия современной ему науки послужили ключевые положения метафизики Р. Декарта («Картезианские размышления»), предложившего философские основания субъекта познания новой европейской науки (Декарт, 1950). Анализируя и развивая идею мыслящей субстанции (res cogitans) в понятие чистого «Я» (Ego), критикуя психологизм в мышлении как род «естественной установки» сознания, мыслитель в духе «строгой научности» («Философия как строгая наука») утверждает очевидность (содержание интуиции как высшей интеллектуальной формы непосредственного познания) исходным моментом онтологии науки (Гуссерль, 2000). Рациональная картина мира, таким образом, получала феноменологическую коррекцию, возвращаясь в искомое соответствие изначальному идеалу.
Одновременно с предполагаемым обретением подлинного основания деятельности научного субъекта в философии Э. Гуссерля появляется тема «жизненного мира», с забвением которого мыслитель связывает негативные явления своего времени («Кризис европейских наук») (Гуссерль, 2000). Феноменологическую редукцию как средство рефлексивного обретения изначальных условий науки в декартовском принципе очевидности Э. Гуссерль рассматривал как успешное возвращение к онтологической «полноте» научного субъекта, что характеризовало становление новоевропейской науки на раннем этапе. К выверенной логической форме европейской научности мыслитель добавляет соотношение с миром непосредственного созерцания как источника жизненных смыслов и ценностей. Позднее эти концептуальные положения через сопоставление понятий «экзистенциальной коммуникации» и «системы»1 в своих работах разовьют К. Ясперс (Jaspers, 1932) и Ю. Хабермас (Хабермас, 2005; Спивак, Зайцев, 2020). Здесь же важно отметить, что в определенный момент развития в своей действующей парадигме наука столкнулась с внутренним кризисом и разладом с ценностным человеческим миром (гуманитарной сферой), потребовавшим строгой рефлексии оснований.
В лице Э. Гуссерля феноменологический поворот по академическому стилю и твердости следования новоевропейскому научному канону стал подобием «рационалистического янсенизма», попыткой ratio обрести «благодать», почувствовать жизненную значимость современной науки для человека посредством соблюдения строгих норм интеллектуального «устава», то есть методологических процедур научного поиска. Сверхзначимые для философии XX в. труды Э. Гуссерля оказались сильной, но всего лишь попыткой через уточнения и поправки окончательно утвердить незыблемость рационалистической новоевропейской научной парадигмы.
Между тем в эпоху начального формирования новых принципов научной рациональности онтология познавательной деятельности не порождала неразрешимых трудностей, и горизонт познания представлялся неограниченно широким, будил воображение («Новая Атлантида») и вызывал ученый энтузиазм. «Ни одна часть Вселенной не является недоступной для человеческого познания… “дух человека подобен божественному светочу”, с помощью которого он исследует сокровенные тайны природы. Поэтому если столь велики человеческие возможности (captus), то совершенно очевидно, что количественная сторона знания, как бы велика она ни была, не грозит нам никакой опасностью заносчивости или высокомерия» (Бэкон, 1977: 87). Дело новой науки («Новый Органон») воспринималось самой жизненной и перспективной задачей (Бэкон, 1977). Неслучайно в то время как метафизика Р. Декарта становится частым предметом утонченного анализа ее спекулятивных качеств (Б. Спиноза, Г. Гегель, Э. Гуссерль, Ж. Маритен, М. Мамардашвили), философские взгляды Ф. Бэкона рассматриваются как общий мировоззренческий архетип Нового времени (Дж. Дьюи, Б. Фаррингтон, Дж. Кроусер)1. Именно социально значимый пафос его учения становился все менее и менее заметным в позднейшей европейской науке, когда автор феноменологической философии желал восстановить доверие к современным наукам.
Ф. Бэкон считается родоначальником экспериментальной науки, изобретателем универсального индуктивного метода и идеологом естествознания. Ему приписывается принципиальный в интеллектуальной традиции переход от умозрительной метафизики к экспериментальной практике в поиске научных истин. Философский гений Ф. Бэкона оценивается сквозь призму последующих грандиозных успехов естествознания по прогностической силе его предвидений.
Предпосылки философских взглядов Ф. Бэкона историки усматривают в гуманистических идеалах и духовных опытах деятелей Ренессанса. Также в числе главных предпосылок передовых для эпохи взглядов философа называют угасание и падение влияния в качестве основного метода познания господствовавшей в средневековье схоластики. В преодолении границ предшествующего типа мышления бэконовской мыслью часто видят радикальный разрыв с аристотелевско-схоластической традицией и свойственным ей дедуктивно-силлогистическим методом (Романенко, 2002). И напротив, в рассуждениях Ф. Бэкона об условиях применения нового экспериментально-индуктивного метода, о самой допустимости и возможности изучения природы как главного предмета познания, подразумевают влияние не до конца изжитого теологического наследия предшествующей эпохи. Стараются не замечать, что уверенность в истинности полученных новым способом знаний о природе мыслитель обретал в понятии Творца и считал его метафизическим основанием для предлагаемого направления научного поиска. «Не допустит того Бог, чтобы мы выдали за образец мира грезу нашего воображения, но да подаст он в cвоей благости, чтобы в нашем Писании было откровение и истинное видение следов и отпечатков Творца на его творениях» (Бэкон, 1977: 79).
В осмыслении перехода от заданной Ф. Бэконом экспериментальной парадигмы естествознания до современного технологического уклада характерно упускается глубоко содержательный факт теологического обоснования новоевропейской науки в его учении. В полном согласии с правилами высокой схоластики Ф. Бэкон рассматривал поиск скрытых в природе связей как изучение «вторичных причин», а принципиальным условием всякого знания считал «первопричину», придавая данному факту истинно философское значение. По этой причине не следует игнорировать или делать случайным присутствие такого классического аргумента в построениях мыслителя. И еще более недопустимым в качестве формального момента его учения по-настоящему метафизиче-ской2 предпосылки обоснования науки в оценке делает наличие этого же аргумента не только в средневековой теологии (Ансельм Кентерберийский, 1995), но и в рационалистической философии Р. Декарта, младшего для Ф. Бэкона сооснователя новоевропейской науки (Декарт, 1950).
Необязательным моментом в учении Ф. Бэкона метафизическое обоснование науки делают позднейшие позитивистские критерии естествознания XIX в. Усилиями Л. Фейербаха в это время «божественное» и «трансцендентное» в философии было перенесено во внутреннюю область человеческого, сделавшись имманентными свойствами разума (Фейербах, 2008). О. Конт обозначил это событие «позитивистским этапом» развития науки и человечества (Конт, 2012). Но, ставя задачу провести философский анализ онтологии научной парадигмы Ф. Бэкона, следует придерживаться традиционных критериев самой философии, оставляя в стороне исторические успехи естествознания в качестве неподходящих доводов.
Философ Э. Гуссерль, однако, в своем обращении к фундаментальным идеям картезианской философии не делал акцента на «онтологическом доказательстве», а сосредотачивался на анализе «самоочевидности» созерцательной способности мыслящего субъекта, усматривая в этом достаточный критерий достоверного знания. В этом проявилась вера мыслителя в рационалистический идеал науки Нового времени, а также его убежденность в том, что само по себе сознание в чистоте логических форм является надежным условием приобретения знаний.
В отличие от автора «Логических исследований», другой знаменитый английский логик – Б. Рассел – в «онтологическом доказательстве», сквозной темой проходящем через историю западной философии, видел хоть и не разрешаемую в границах философского мышления, но «славную» по многовековой давности проблему возможности перехода от мышления к бытию
(Рассел, 2009). Ученый отмечал, что «в известном смысле оно лежит в основе системы Гегеля» (Рассел, 2009). Поэтому, признавая столь глубокое значение этой идеи, отказать в ее значении для философских построений Ф. Бэкона и Р. Декарта, определивших внутренний строй и облик новой науки, просто невозможно.
Г.В.Ф. Гегель, устанавливавший в своей идеалистической системе абсолютное тождество мышления и бытия, существенным качеством сознания делал понятие отношения как «взаимосвязь двух сторон, которые, обладая самостоятельным существованием, отчасти равнодушны друг к другу, отчасти же существуют только благодаря друг другу и только в единстве этой взаимной определенности» (Гегель, 1971: 103–104). «Сознание, собственно говоря, ‒ это отношение Я к какому-нибудь предмету, безразлично внутреннему или внешнему» (Гегель, 1971: 7). Поэтому существующее в сознании отношение является условием и перспективой его развития как познания. Присутствие в воззрениях Ф. Бэкона понятия Бога и является (конечно, не в буквальном гегелевском смысле) такого рода отношением к Абсолюту, онтологической «опорой», свободно позволяющей делать Природу отдельным предметом познания.
Созданный Ф. Бэконом метод индукции, логическая систематизация научной деятельности, которой он дал начало, его философия естествознания, получившая законченный образ математического универсума трудами Галилея, имели принципиальной своей предпосылкой, используя выражение Р.Дж. Коллингвуда, «абсолютное допущение» познаваемости такими методами созданного Творцом мира (Collingwood, 1948). «Бог создал человеческий ум подобным зеркалу, способным отразить всю Вселенную, столь же жаждущим охватить этот мир, как глаз жаждет света, и не только желающим воспринять все разнообразие и чередование времен, но и стремящимся к всестороннему рассмотрению и исследованию неизменных и нерушимых законов и установлений природы» (Бэкон, 1977: 87). Экспериментальный способ познания «вещей» и развитое после Ф. Бэкона математическое описание скрытых в природе «форм», сопровождавшиеся уверенностью в познавательной деятельности и в предмете познания, были следствием свободного соотношения сознания ученого с исследуемой областью природы. Превратившийся позднее сначала в деизм и далее в материалистические представления внутренне присущий основателю новой научной парадигмы теизм обеспечивал онтологические «гарантии» того самого «жизненного мира», который, как это описывал К. Маркс, улыбался «своим поэтически-чувственным блеском человеку» (Маркс, Энгельс, 1955: 142–143).
К. Маркс, однако, под «блеском» подразумевал содержательное богатство материи, изучаемой естествознанием. Самому же Ф. Бэкону его известный энтузиазм внушало новое практическое значение научных занятий, а отнюдь не понятие неисчерпаемой материи. Абсолютное мыслитель понимал в традиционных категориях метафизики как то, что по определению содержательно природу превосходит: «Не нужно считать, что мы можем с помощью созерцания и размышления над природой проникнуть в божественные тайны… Дело в том, что созерцание творений дает знание, поскольку оно касается самих этих творений, но по отношению к Богу оно может порождать лишь восхищение, которое подобно незаконченному знанию» (Бэкон, 1977: 88). Итогом же онтологизации творения в естествознании после Ф. Бэкона стало заметное уменьшение горизонта познания, вплоть до последних явлений кризиса, потери осмысленности научной деятельности и невозможности рефлексии собственных оснований. Математический универсум, лишенный онтологической соизмеримости с метафизическим Абсолютом, обнаружил содержательную бедность поиска и описаний законов и связей внутри себя. «Материал, относительно которого математика обеспечивает удовлетворяющий запас истин, есть пространство и счетная единица. Пространство есть наличное бытие, в которое понятие вписывает свои различия, как в пустую мертвую стихию, где они точно так же неподвижны и безжизненны» (Гегель, 2014).
Благодаря изначально классической теистической позиции по поводу оснований человеческого знания Ф. Бэкон хорошо сознавал превратности научных поисков: «Здание этого нашего Мира и его строй представляют собой некий лабиринт для созерцающего его человеческого разума, который встречает здесь повсюду столько запутанных дорог, столь обманчивые подобия вещей и знаков, столь извилистые и сложные петли и узлы природы» (Бэкон, 1977: 64). И, вразрез с закрепившимся позднее в новоевропейской научной традиции образом последовательного материалиста, вдохновение и силы для интеллектуальной деятельности мыслитель черпал в понятиях и содержании христианской метафизики: «Коленопреклоненно молим о том, чтобы человеческое не оказалось во вред божественному и чтобы открытие путей чувств и яркое возжжение естественного света не породило в наших душах ночь и неверие в божественные таинства, но чтобы, напротив, чистый разум, освобожденный от ложных образов и суетности и все же послушный и вполне преданный божественному откровению, воздал вере то, что вере принадлежит» (Бэкон, 1977: 66). Выводом же к состоянию (опытных в своей основе) современных наук, явным образом потерявших к настоящему времени ориентиры содержательного развития, после внимательного обращения к исходной точке возникновения их общей модели в учении Ф. Бэкона представляется утрата трансцендентного начала, которое открыто присутствовало в воззрениях мыслителя и служило онтологией его естественнонаучных практических интересов. Метод эмпирической индукции, который с воодушевлением первооткрывателя философ предлагал для изучения свойств природы, в его трудах изначально имел свое ограниченное назначение для постижения предмета, который мыслитель не наделял качествами Абсолюта. «Чувства раскрывают нам природные явления, божественные же скрывают… некоторые из ученых впадают в ересь, пытаясь на крыльях, скрепленных воском чувственных восприятий, взлететь к божественной мудрости» (Бэкон, 1977: 87). Невнимание к этой стороне в генезисе новоевропейских наук и приводит современное естественнонаучное сознание к тупику противоречия между универсальностью значения, приписываемого феномену науки, и границами логико-эмпирического метода, не позволяющими внутри себя обращаться к задачам метафизического свойства: трансцендированию в мышлении и глубокой рефлексии над собой. В результате сознанием теряется собственное природное качество соотношения как с объектом познания, так и самим собой; оно перестает быть разумным и, напротив, становится неспособным к осознанию возникающих противоречий. Таким образом, происходит общая дерационализация мышления эпохи (Володин, 2023). «Формирование гипотез ‒ наиболее трудная часть научной работы… До сих пор не найдено ни одного метода, который сделал бы возможным изобретение гипотез по заранее установленным правилам. Обычно какая-нибудь гипотеза является необходимой предпосылкой для сбора фактов. Без этого простое умножение фактов сбивает с толку» (Рассел, 2009). Так, для Ф. Бэкона предпосылкой всей научно-экспериментальной деятельности был Бог.
Список литературы Границы естественнонаучной парадигмы Ф. Бэкона: предпосылки деонтологизации науки
- Ансельм Кентерберийский. Сочинения. М., 1995. 400 с.
- Бэкон Ф. Сочинения: в 2 т. М., 1977. Т. 1. 567 с.
- Володин Я.А. Отношение логического и иррационального в философских учениях Г.В.Ф. Гегеля и А. Шопенгауэра // Научное мнение. 2023. № 6. С. 22‒27. https://doi.org/10.25807/22224378_2023_6_22.
- Гегель Г.В.Ф. Работы разных лет: в 2 т. М., 1971. Т. 2. 630 с.
- Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа. М., 2014. 490 с.
- Гуссерль Э. Кризис европейского человечества и философия // Вопросы философии. 1986. № 3. C. 91–116.
- Гуссерль Э. Логические исследования. Картезианские размышления. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. Кризис европейского человечества и философии. Философия как строгая наука. Мн. ; М., 2000. 752 с.
- Декарт Р. Избранные произведения. М., 1950. 712 с.
- Конт О. Общий обзор позитивизма. М., 2012. 296 с.
- Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения: в 30 т. М., 1955. Т. 2. 652 с.
- Рассел Б. История западной философии. М., 2009. 1008 с.
- Романенко И.Б. Образовательные парадигмы в истории античной и средневековой философии. СПб., 2002. 308 с.
- Спивак В.И., Зайцев Д.Ф. Концепция «жизненного мира» Ю. Хабермаса // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2020. Т. 21, № 4-1. С. 61–68.
- Фейербах Л. История философии. М., 2008. 2411 с.
- Хабермас Ю. Политические работы. М., 2005. 361 с.
- Collingwood R.G. An Essay on Metaphysics. N. Y., 1948. 376 р.
- Jaspers K. Philosophie: in 3 Bänden. Berlin, 1932. Bd. 2: Existenzerhellung. 222 s. (на нем. яз.)