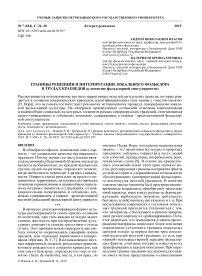Границы рецепции и интерпретации локального фольклора в трудах краеведов (к понятию фольклорной сингулярности)
Автор: Власов Андрей Николаевич, Еремина Валерия Игоревна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Дискуссии
Статья в выпуске: 7 (184), 2019 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается возникновение местных нарративных моделей, ритуальных практик, которые рождаются в сознании севернорусских краеведов, идентифицирующих свое знание с «местом памяти» (П. Нора), что не совсем соответствует реальному историческому процессу саморефлексии локальной фольклорной культуры. На материале краеведческих сочинений отмечены взаимовлияние и взаимообмен социально-культурных элементов разных севернорусских традиций, отличающихся своим «поведением» и «обликом», возможно, содержанием, а главное - архитектоникой фольклорной сингулярности.
Краеведение, письменная и устная традиции, "место памяти", "память места", фольклорная сингулярность, локальность / региональность
Короткий адрес: https://sciup.org/147226514
IDR: 147226514 | УДК: 398 | DOI: 10.15393/uchz.art.2019.397
Текст научной статьи Границы рецепции и интерпретации локального фольклора в трудах краеведов (к понятию фольклорной сингулярности)
В общефилософском понимании сингулярность – это уникальное качество неуникального предмета. Потому момент ее наступления является величиной субъективной. В целом она всегда является необычностью, но каждый человек или группа людей по-разному определяет момент, когда необычность переходит в разряд уникальности. Однако в статье речь идет не просто о пограничных территориях, на которых исторически отмечены взаимовлияние и взаимообмен социально-культурных элементов, а о традициях, отличающихся своим «поведением» и «обликом», возможно, содержанием, а главное – архитектоникой местной (локальной) фольклорной сингулярности.
***
В процессе самоидентификации формы культуры рассматриваются сквозь призму сознания ее носителей, при этом каждая культура задает степень жесткости при воспроизведении культурных доминант и степень допустимого отхода от них. Этот принцип можно определить как свободу личности «переписывать сценарий» жизни предков, или «принцип вариативного копирования образца» [6: 5–7]. В возникновении местных нарративных моделей, ритуальных практик, которые рождаются в сознании краеведов, как они сами убеждены, определяется «место памяти» (lieux de memoire), места, в которых, по
мнению Пьера Нора, воплощена национальная память, – это памятники (культуры и природы), праздники, эмблемы, торжества в честь людей или событий, прощальные, погребальные речи, похвальные слова [9]. В основе же краеведческих сочинений лежит категория «памяти места», регулирующая границы восприятия фактов устной истории и сдерживающая возможности «беллетризации» (интерпретации) фольклорного континуума местной традиции. В понятии «памяти места» (memoria loci) пространственновременные координаты приобретают несколько иной характер, имея в виду разные ее формы реализации: вербальную, звуковую, зрительную, бытовую, хозяйственную, ритуальную и т. п. При исследовании современного состояния локальных традиций приходится сталкиваться с тем, что материалы, относящиеся к разным жанрам, дают разную картину их «районирования». Остается надеяться, что имеющиеся в нашем распоряжении материалы позволяют более или менее определенно установить границы локальных центров только за период жизни трех поколений носителей местной традиции, то есть при «живой» непосредственной передаче фольклорных фактов, учитывая потерю и известную их трансформацию в каждом поколении. При определении границ традиции исследователям важно иметь четкое представление о самосознании носителей в разные исторические фазы существования местной культуры. В самоопределении информанта и самоидентификации (к какой традиции он принадлежит) заложен важнейший механизм памяти традиции и сохранения / изменяемости форм народной культуры [2]. При этом следует отметить, что краеведом руководит потребность записать устный текст в тех случаях, когда в жизни традиции, по его мнению, наступает кризис и появляется желание спасти ее от небытия. Но фиксированные факты и устные тексты полностью не соответствуют оригиналу, то есть допускается субъективный отбор одного из вариантов или контаминации из нескольких близких манифестаций [8: 293, 295–296]. По сути, краеведческие сочинения представляют собой один из способов перекодировки устной культуры в письменную.
«Память места» складывается в основном из вербальных манифестаций традиции. Понятие «памяти места» (memoria loci) имеет несколько иное содержание в отличие от понятия «место памяти» («lieux de memoire»), введенного французским ученым Пьером Нора в начале 80-х годов XX века. Оно воплощает в себе единство духовного и материального порядков, которое со временем и по воле людей стало символическим элементом наследия национальной памяти общности. Места, в которых, по мнению Пьера Нора, воплощена национальная память, – это памятники (культуры и природы), праздники, эмблемы, торжества в честь людей или событий, прощальные, погребальные речи, похвальные слова. Функция мест памяти – сохранять память группы людей. Местами памяти могут стать люди, события, предметы, здания, книги, песни или географические точки, которые «окружены символической аурой». Их главная роль – символическая. Они призваны создавать представления общества о самом себе и своей истории. Важной характеристикой мест памяти является то, что они могут нести разные значения и что эти значения могут меняться.
Источниками для изучения мест памяти являются тексты, картины и предметы, которые дают информацию об определенном событии, человеке или идее. Можно изучать изменение исторического самосознания и коллективной идентичности на примере смены мест памяти нации. Выделяются три вида изменений в ансамбле национальных lieux de memoire. Во-первых, отдельные из них могут быть забыты или вытеснены из памяти. Во-вторых, бывает, что забытые места памяти заново приобретают свое значение. В-третьих, можно изучать перемены коллективной памяти и в тех lieux de memoire, которые беспрерывно имели и имеют свое место в коллективной памяти нации. Значение, которое сообщество ассоциирует с определенными местами памяти, не обязательно остается неизменным в те- чение истории [9]. Например, устные рассказы о чуди являются неясным, хотя единственным историческим источником дописьменного состояния культуры, характерным признаком памяти места [2]. Следует согласиться с методологическим положением А. А. Ивановой о том, что исторические предания о чуди являются постоянно востребованными в научном дискурсе и
«на настоящий момент выявлен их сюжетный и мо-тивный репертуар, ареалы его бытования, описаны история этнонима и его референтные основания» [7].
Другим примером является сохранение нарратива о местночтимых святых и святынях в форме фольклорных «слухов и толков», относящихся к знанию общедоступному или «частичному» (ограниченному конфессиональной принадлежностью). Они основаны на памяти о событии, которое имеет конкретную привязку к месту действия (проявлению «чуда») и инициируют обрядово-ритуальные действия (крестный ход и др.) или магические практики (брать с собой целительный песок с могилы, кору с дерева, воду из святого источника, бросать деньги, оставлять на святом месте полотенца или предметы одежды и т. п.). В сообщениях могут появляться «чудесные природные объекты»: вечнозеленая береза, кедровая роща, сосновый бор, горячий / целебный источник, выкопанный святым колодец и т. п. Обязательным системным признаком нарратива является и наличие запрета, когда вследствие его нарушения чудодейственные свойства святыни исчезают [3].
В мифопоэтическом плане с помощью известных архетипов и явных авторских аллюзий, цитирования «чужого текста» конструируется модель местного церковного предания, которое к собственно фольклорной местной традиции имеет весьма опосредованное отношение. Такое сконструированное церковное предание становится источником местного фонда фольклорных сюжетов. Но реализация сюжета церковного предания в фольклорных текстах или других формах и видах народной культуры и исторической памяти места в свою очередь теряет четкие границы. Поэтому жанровая форма предания (в том числе церковного) не имеет адекватных своему предназначению форм выражения. Оно иллюзорно, тем не менее за ним прочно закреплена власть авторитетного источника, как в письменной, так и в устной традиции.
Определяющей чертой сочинений местных краеведов является отсутствие «чувства жанра» как письменной, так и устной традиции. Их «творчество» оказалось в сфере бессистемных и хаотических соприкосновений «личного» и «коллективного», и вместе с тем эти тексты, несомненно, несут знание о народной традиционной культуре, творческих потенциях и стратегиях современных носителей традиции. Они не только определяют границы, общие «параметры» и позволяют более рельефно обозначить особенности местного культурного сознания, самоидентификацию информантов как представителей данной местности и носителей определенной культуры, но и получают непосредственное выражение в ряде фольклорно-этнографических явлений – в жанровых предпочтениях, в календаре, обрядовой поэзии, топонимической системе, народной прозе и т. д. Все эти материалы зафиксированы и дошли до нас в разнообразных письменных жанровых формах: этнографического очерка, бытового очерка, отдельной главы в историческом исследовании местного краеведа, отдельной публикации (статьи) в краеведческом сборнике или альманахе, в письменных воспоминаниях местных жителей (народных мемуарах), словарях местного говора [4], полевых записях музейных сотрудников или любителей, сборниках одного составителя, репертуарных сборниках с самозаписью исполнителей и т. п. Реально конкретные формы манифестаций носят диффузный характер: определяющей чертой сочинений местных краеведов является отсутствие «чувства жанра».
Все перечисленные формы саморефлектив-ного диалога личности и культуры способствуют потере аутентичности текстов традиционной культуры и направлены на перекодировку языка фольклора. Поэтому поставленные в настоящей статье проблемы изучения письменных манифестаций традиционного фольклора внутри культуры открывают для исследователей новые возможности не только ее взаимодействия с другими культурными системами, но и позволяют понять некоторые механизмы ее внутренней перестройки под воздействием различных факторов.
Эдиционная практика краеведческих материалов также вызывает большой интерес: например, местная полиграфическая продукция включает в себя не только книги / брошюры, сборники и альманахи, но и медиаиздания (CD, DVD, публикации в Интернете с аудио- и видеоматериалами). Однако это отдельный аспект обсуждения проблемы.
Краеведческие сочинения носят принципиально региональный / локальный характер, о чем свидетельствуют попытки авторов обозначить «методологические принципы» своих трудов. В словарях, например, по словам составителя «Поморской говори», «содержится попытка осмысления самими поморами основ языка своего народа ради его сохранения» [10: 10]. В обращениях к детским воспоминаниям можно усмотреть один из главных мотивов, побудивших автора к сбору лексического материала. Именно «память детства» является одним из деятельных рычагов в механизме саморефлексии традиции.
М. И. Романов, устьянский краевед, в своих сочинениях использовал так называемый крае- ведческий метод анализа разнородного материала, отличие которого он видел
«в том, что ученый специалист берет свой материал отовсюду; краевед же в пространственном отношении ограничен. Его задача – дать облик определенной и необширной местности, представляющей целостную еди-ницу…»1.
Поэтому краевед решался на широкие параллели и обобщения, на попытки выявить взаимосвязи между, казалось бы, далекими явлениями народной культуры: фольклорными образами и орнаментом на одежде, устойчивыми мотивами в резьбе прялок и домов, обычаями и верованиями, особенностями местного словоупотребления. Он предпринял, таким образом, попытку реконструировать целостный мир народной культуры Устьянского края [1: 16–17]. Наряду с весьма курьезными размышлениями относительно генезиса фольклора2, неприятием компаративистики как одного из ведущих методов в фольклористике и так называемой «расовой теории»3, у него встречаются и откровенно наивные реконструкции в духе известного марровского направления в лингвистике, приводившие его к весьма сомнительным заключениям4.
Еще более откровенно выразил свою позицию краевед из Каргополя И. И. Рудометов, который в предисловии к подготовленным для публикации текстам былин пишет об исторической неосведомленности поздних сказителей, которые в своем творчестве искажают «старинные сказания», и упрекает собирателей, которые записывают такие псевдоисторические тексты:
«Все они говорят, прежде всего, об усердии “собирателей” былин, которые, проявляя ревность / резвость не по разуму, иногда записывали буквально всякое слово, исходящее из уст “сказителей и сказительниц” и тем самым нередко засоряли ниву народного творчества. В настоящее время необходимо расчистить эту ниву. С этой целью следует, прежде всего, сделать пересмотр творчества псевдосказителей, подходя к нему с научной точки зрения, и тем самым восстановить образы старины, очистить их от всех последующих наслоений»5.
Жанр народных мемуаров возник в результате столкновения традиционной крестьянской культуры с культурой письменной. Овладение письмом как главной формой выражения недеревенской культуры позволяло взглянуть на деревенскую извне, почувствовать ее необычность, своеобразие. Краевед находится одновременно в двух культурах, но пользуется формами и приемами письменной культуры, сохраняя мироощущение и все бессознательные ценностные установки носителя традиционной культуры [5: 141]. Поэтому фольклорные тексты в условиях письменной культуры представляют собой либо метатекстовые образования относительно письменных текстов, либо письменные «тексты», реализующиеся в одной из форм фольклорных стилизаций. Общим же «резервуаром», из которого формируются те или иные устные, равно и письменные, произведения в ту или иную историческую эпоху, является «знание», основанное на памяти традиции, а фольклорные тексты (в большинстве своем) лишь актуализируют память национальной традиции в исторически конкретном моменте жизни общества.
Важным признаком краеведческого нарратива является эстетическое начало, которое, как правило, присутствует в форме лирических отступлений или пейзажных миниатюр:
«Мало-Пинежье с серенькими деревушками, окруженными небольшими полями и наволоками, представляло окно в небо, небольшой островок среди безбрежного зеленого океана лесов, порезанного голубой лентой Пинегой. Пинега под нашей деревней была тиха, величава и глубоководна… Напротив деревни река, делясь на две протоки, оставляла большой песчаный остров, ниже которого в сильнейшей быстрине, переливаясь и играя красками, вновь подбегала к нашему берегу и оставляла узкую, длинную песчаную косу, сплошь покрытую мелким камешком. Эту песчаную косу называли Долгий Песок. <…>
Иду берегом реки, слева скошенные наволоки и осто-жья, а справа игриво струится родная Пинега. Сквозь чистые воды реки просматривается разноцветье галечника и снующие туда- сюда мелкие рыбешки. … А за рекой – лохматый сосновый бор. Кряжистые великаны, подмытые течением реки, гордо склонив свою кудрявую голову, скрывают высокий песчаный берег реки, где впадает речка Шидрова. Ранней весной еще кругом снег, а на Шидровском перекате, рано освободившемся ото льда, уже появились первые утки – кряквы, гоголи. Нe одну утреннюю зарю провел я подростком на этом перекате в снежном окопчике, любуясь красками весеннего солнечного утра, поджидая уток. Вспыхнувшие воспоминания оживают в памяти, волнуют и радуют. Красив и люб родной край!»6
Лирические отступления, связанные уже с эстетическим восприятием автором природы родного края, являются также своеобразным показателем саморефлексии традиции. У краеведов чувство родины особенно обострено, часто оказывается, что многие из них занимались литературным творчеством7.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, категория «место памяти» и понятие «память места» позволяют определить некоторые точки соприкосновения и корреляции культурных систем – письменной и устной – и представить в реальности процесс фольклорной сингулярности.
P. 141–147. (In Russ.)
Список литературы Границы рецепции и интерпретации локального фольклора в трудах краеведов (к понятию фольклорной сингулярности)
- Веревкина Г. А., Мильчик М. И. Михаил Иванович Романов - выдающийся краевед Русского Севера. Вельск, 2006. 27 с.
- Власов А. Н. "Память места" как аспект теоретической проблемы локальности / региональности в русском фольклоре // Региональные исследования в фольклористике и этнолингвистике - проблемы и перспективы: Сб. статей / Ред. кол.: М. В. Ахметова (отв. ред.), О. В. Белова, А. Б. Мороз, Н. С. Петрова. М.: Государственный республиканский центр русского фольклора, 2015. С. 70-82.
- Власов А. Н. Устные и письменные формы повествования о местных святых и чудотворных иконах Устюжского края // Круги времен: В память Елены Константиновны Ромодановской. М.: Индрик, 2015. Т. 2: Исследования. Посвящения и воспоминания. С. 423-429.
- Власов А. Н. Фольклоризм как стилевая доминанта в авторских нарративах (Словари краеведов) // Русский фольклор. Фольклоризм в литературе и культуре: границы понятия и сущность явления (Сборник статей и материалов памяти А. А. Горелова). Т. XXXVII. СПб., 2018. С. 135-148.
- Востриков О. В. Об авторе и жанре книги // Грозина Н. П. История села Беляковского. Екатеринбург, 1997. С. 141-147.
- Делёз Ж. Различие и повторение. СПб.: ТОО ТК "Петрополис", 1998. 384 с.
- Иванова А. А. Предания о чуди верховий Пинеги как локальный сверхтекст // Из истории русской фольклористики. Современные методы и подходы в изучении традиционной народной культуры (К юбилею Юрия Александровича Новикова). СПб., 2018. Вып. 10. С. 200-201.
- Неклюдов С. Ю. Традиции устной и книжной культуры: соотношение и типология // Славянские этюды: Сб. к юбилею С. М. Толстой. М., 1999. С. 293-296.
- Нора П. Проблематика мест памяти // Франция-память. СПб., 1999. С. 10-12.
- Мосеев И. И. ПомОрьска говОря. Краткий словарь поморского языка. Архангельск, 2005. 126 с.