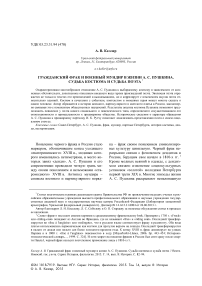Гражданский фрак и военный мундир в жизни А. С. Пушкина. Судьба костюма и судьба поэта
Автор: Келлер Андрей Викторович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Российская история
Статья в выпуске: 8 т.14, 2015 года.
Бесплатный доступ
Охарактеризовано многообразное отношение А. С. Пушкина к выбираемому костюму в зависимости от жизненных обстоятельств, дополненное описанием внешнего вида героев произведений поэта. Эволюция поэта отражается не только в текстах его произведений и высказываниях, но и коррелирует с изменением вкусов поэта относительно одеяний. Костюм в сочетании с событием, контекстом и эмоциями героя может многое сказать о самом человеке. Автор обращается к истории военного, партикулярного и светского платья в России, закономерно связывая это с изменением общественных настроений. Результаты анализа костюма Пушкина позволяют предположить появление у поэта нового социального и поведенческого типа, определяемого сосуществованием его оппозиционности и принадлежности к придворному обществу. Исторические сведения о характере обращения А. С. Пушкина к придворному портному И. К. Рутчу помогают локализовать представления поэта о своем социальном статусе.
Санкт-петербург, портные петербурга, а. с. пушкин, фрак, мундир, история костюма, денди, вестернизация
Короткий адрес: https://sciup.org/147219435
IDR: 147219435 | УДК: 03.23.31.94
Текст научной статьи Гражданский фрак и военный мундир в жизни А. С. Пушкина. Судьба костюма и судьба поэта
Появление черного фрака в России стало маркером, обозначившим конец уходящего «екатерининского» XVIII в., модники которого именовались петиметрами, и место которых занял «денди». А. С. Пушкин и его современники проводили четкую грань между своим поколением и вельможами «старомодного» XVIII в. Антипод мундира – символа военного и партикулярного поряд- ка – фрак своим появлением символизировал культуру цивильную. Черный фрак неразрывно связан с феноменом дендизма в России, берущим свое начало в 1810-х гг. 1 Кроме модных веяний в одежде, с дендизмом связано изменение социокультурных установок «золотой» молодежи Петербурга первой трети XIX в. Многие эпизоды жизни А. С. Пушкина раскрывают немаловажную
* Статья подготовлена в рамках реализации гранта Правительства РФ по привлечению ведущих ученых в российские образовательные учреждения высшего профессионального образования и научные учреждения государственных академий наук и государственные научные центры Российской Федерации (Лаборатория эдиционной археографии, Уральский федеральный университет). Договор № 14.А12.31.0004 от 26.06.2013 г.
Автор благодарит Л. Н. Киселеву, Л. С. Соболеву и О. П. Старцеву за полезные обсуждения статьи в процессе ее написания.
информацию об отношении поэта к своему внешнему виду. Изучение обращения Пушкина к тому или иному типу одежды способно обогатить представление о жизненной позиции поэта. В своей молодости и вплоть до женитьбы для облика Пушкина и его повседневного поведения были характерны некоторые типологические черты дендизма, который столь недавно стал входить в бытовую культуру эпохи (о русском дендизме и пушкинском Петербурге см.: [Вайнштейн, 2005; Гроссман, 2013; Эйдельман, 1980]; о дендизме как феномене европейской культуры см.: [Барт, 2003. С. 393–398; Свендсен, 2007. С. 220–222; Erbe, 2002]). Оригинальным взглядом на жизнь и творчество А. С. Пушкина отличается монография Джо Пешио [Peschio, 2012]. В более широком контексте важными являются публикации по истории моды и костюма российских [Глинка, 1988; Калашникова, 2002; Кирсанова, 2002; Гурова, 2011] и зарубежных ученых [Крейк, 2007; Свендсен, 2007], а также диссертационные исследования философско-культурологического профиля [Бердник, 2004; Быстрова, 2003; Цесевичене, 2011; Цзя, 2011].
Многие произведения Пушкина также отсылают к теме дендизма [Лотман, 2003. С. 550–552; Марченко, 2001. С. 66–73]. Главным признаком денди, как известно, было особое умение носить фрак. Возвращение фрака в дворянский и чиновничий гардероб после кратковременного «тиранического» правления Павла I и гонений на все, что пришло из «революционной» Франции, ознаменовало собой начало новой эры «просвещенного» правления. Возьмем за основу две метафоры – фрак, как цивильную, и мундир, как метафору военной и гражданской службы [Лотман, 2003. С. 521]. Промежуточной формой между черным фраком, как мужским вечерним платьем, и военным мундиром является фрак-мундир камер-юнкера [Брюсов, 1929. С. 19–20]. Такая многофункциональность характерна для фрака, выступающего и как вицмундир (форма военного или гражданского чиновника), и как мужской вечерний костюм, и как сюртук 2. В типе костюмного поведения Пушкина интересуют два аспекта.
-
1. Эпатажность костюма, апеллирующая к образу независимого денди, поведение
-
2. Невнимательность к этикету и пренебрежение к форме одежды, означающие оппозицию, гражданское неповиновение, протест.
которого не соответствует придворному и светскому этикету.
Прежде чем приступать к изложению темы, сделаем одно методологическое замечание. В статье не дается анализ литературных персонажей как таковых. Произведения поэта, воспоминания современников и письма используются как исторический источник для раскрытия возможности соотнести костюмное поведение Пушкина, его жизненную позицию и вероятную мотивацию его поступков [Цимбаева, 2004]. Это, в свою очередь, поможет объяснить факт, почему поэт, несмотря на все возрастающие долги, был клиентом одного из самых дорогих придворных портных столицы.
В 1937 г. русский философ С. Л. Франк критично отозвался о «безмерн[ом] и бес-цельн[ом] распухани[и]» исследований об А. С. Пушкине [1987. С. 59]. Среди произведений из области пушкиноведения он провел разделительную черту между исследованиями творческой, духовной и интеллектуальной жизни поэта, имеющей для потомков абсолютную ценность, и «второсортным» «бытописанием» его повседневной жизни: «Можно изучить историю улиц и домов, в которых он жил, или магазинов, в которых он что-либо покупал, портных, которые шили ему платья, и пр. […] Но не угрожает ли тут опасность потонуть в какой-то безмерности, раствориться в “дурной бесконечности?”» [Там же].
Современный исследователь-культуролог И. А. Манкевич приходит к иному выводу. Она считает, что «при соответствующей оптике прочтения знаковых и символических контекстов костюмных сюжетов [возможно] выйти на биографические тексты культуры» [2009. С. 92]. Структура костюмных текстов культуры, образующаяся, среди прочего, из этикетных норм ношения костюма, костюмных вкусов и предпочтений, а также эмоциональные переживания субъектов костюмных коммуникаций могут многое сказать об исторической личности [Манкевич, 2009. С. 92; 2008. С. 31]. «В широком культурологическом контексте костюмный текст способен информировать читателя о внелитературных (ментальных, идеологических, биографических) и внутрилитературных (традиция, мо- да, полемика) факторах не только своего рождения, но и идеи произведения в целом» [Манкевич, 2008. С. 31]. Отличительными признаками дендизма, грассирующего в это время в Европе, являются не только свойственные этой субкультуре модные вещи (например, трость, цилиндр, галстук), но и тип общения, речевого поведения и образа мыслей, обязательность которых формирует понятие дендизма, одновременно противопоставляющего себя моде, т. е. всеобщему подражанию общепринятым канонам в одежде. Именно модные вещи и модные идеи становятся «непременны[м] атрибут[ом] повседневных забот пушкинских героев» [Там же]. Слово «мода» встречается в произведениях Пушкина 84 раза, в особенности в романе в стихах «Евгений Онегин» [Словарь…, 1956–1961]. Пушкин «стал высшим среди отечественных литераторов авторитетом в этой тонкой сфере, за что А. Бестужев его назвал “богом моды настоящего”» [Манкевич, 2008. С. 31].
И. А. Манкевич противопоставляет «халат как вещный “приют спокойствия , трудов и вдохновенья” » его антиподу – камер-юнкерскому мундиру [Там же. С. 37], т. е. частную жизнь поэта жизни официальной и светской. Расширим это интерпретационное поле и противопоставим мундиру военному [Глинка, 1988] и гражданскому, представляющим военную и партикулярную службу, фрак, как атрибут цивильного и гражданского, т. е. общественного, социального начала, со всей многозначностью его семантики. Халат , как символ интимной, частной жизни, соприкасается со смысловым полем фрака : от утреннего туалета до выхода в свет. Фрак является связующим звеном между светской средой, соседствуя с камер-юнкерским (фрак)мундиром, вицмундиром гражданского чиновника и военного на балу, и гражданской / цивильной социальной средой, что создает дополнительное интерпретационное пространство для анализа личностных предпочтений поэта в его социокультурных ориентациях.
Напоминая своим личным вкусом в одежде и в поведении денди и будучи аристократом, Пушкин, попадая в иную среду, экспериментировал, входя в разное время в образы крестьянина, мещанина, купца, цыгана, турка, черкеса, пылкого любовника. Первые оставались базисными и личностно определяющими, вторые – игровыми, роле- выми характеристиками креативного, латерального мышления и поведения. Незадолго до своей кончины Пушкин делился с одним из своих друзей: «Меня упрекают в изменчивости мнений. Может быть: ведь одни глупцы не переменяются» [Вересаев, 1990. Т. 3. С. 106]. Как отметила Манкевич, «необычное и зачастую эпатажное поведение неизменно привлекало внимание публики. Некоторые из костюмных эпизодов […] носили откровенно скандальный характер» [2009. С. 93].
Во время своего пребывания в Кишиневе в 1820–1823 гг. «меняет костюмы […], получая удовольствие от производимого им маскарадного эффекта в публике». Иногда он прогуливается в «пестром архалуке» или одевается «в красную русскую рубашку с опояском» [Манкевич, 2009. С. 93–94]. Позже в Пскове он появляется переодетым в мещанский костюм, чем шокирует местное общество. Согласно воспоминаниям А. А. Куцинского, он видел Пушкина в 1824 г. в Могилеве и принял его первоначально за «кучеренка»: «… по улице расхаживает кто-то в виде кучеренка, в русской рубашке, в высоких сапогах и ермолке, а по сверх всего военная шинель. […] Стали говорить, что это, должно быть, сумасшедший». Молодой корнет был очень удивлен, когда узнал на почтовой станции, что это был Пушкин [Там же. С. 94].
Признаки облика и поведения у Пушкина, подпадающие под понятие «денди», заметны, прежде всего, в годы после выхода из Царскосельского Лицея летом 1817 г. до его женитьбы в феврале 1831 г. Петербург как открытое космополитное многоязычное и поликультурное пространство располагал всеми благоприятными условиями для этого. Сильное влияние на юного Пушкина оказал «le beau Tchaadaef», как его называли сослуживцы по полку, Петр Яковлевич Чаадаев. Известный франт, лейб-гвардии гусар, обладавший не только блестящим умом, но и «английскими, чуть ли даже не байроновски-ми манерами» [Лотман, 2003. С. 53–54]. По отзыву старшей дочери Н. Н. Раевского Е. Н. Орловой, Чаадаев являлся «неоспоримо […] самым видным […] и самым блистательным из всех молодых людей в Петербурге» [Жихарев, 2007. С. 64]. М. И. Жихарев писал, что «искусство одеваться Чаадаев возвел почти на степень исторического значения» (цит. по: [Лотман, 2003. С. 57]). Не случайно Пушкин назвал героя своего романа в стихах Евгения Онегина «вторым Чадаевым», желая охарактеризовать его как настоящего денди:
Второй Чадаев, мой Евгений, Боясь ревнивых осуждений, В своей одежде был педант. И то, что мы назвали франт.
Он три часа по крайней мере
Пред зеркалами проводил
[Пушкин, 1960. Т. 4. С. 20].
Как известно, отец Пушкина отказал в финансировании службы поэта в каком-либо лейб-гвардии гусарском полку, из-за неимения достаточных средств. В инфантерии он сам служить категорически отказался. В октябре 1817 г. Пушкин приезжает из Михайловского в Петербург и окунается в круговорот светской жизни, посещает лучшие салоны и балы, кутит с гусарами, кружится в амурах, пишет стихи. «Счастливый любимец судьбы», как его называет П. И. Бартенев [1855. С. 1–2], «со всеми странностями его костюмного поведения» [Манкевич, 2009. С. 92] – Пушкин после продолжительной болезни весной 1818 г. «…носил широкий черный фрак с нескошенными фалдами, a l'americaine и шляпу, с прямыми полями a la Bolivar» [Вересаев, 1990. Т. 2. С. 96] 3. И хотя выражение: «Нарочитая грубость его была верхом щегольской утонченности» относится к фраку, его можно было бы отнести и на счет поведения самого Пушкина [Лотман, 2003. С. 43]. Что это, как не характерные черты любого опытного денди. Тогда же, как указывает Бартенев, Пушкин начал носить длинные ногти, что вызывало насмешки в светском кругу, где смеялись над претензиями Пушкина на «аристократизм», причем на мизинце он носил золотой футляр, чтобы защитить особенно длинный ноготь.
Пожалуй, невозможно дать односложный ответ на вопрос, был ли Пушкин в это время денди. Речь идет лишь о степени его дендизма. Наиболее интересны в данном контексте работы Ю. М. Лотмана [1994. С. 123–135; 2003. С. 550–670]. «Как денди лондонский одет…» [Пушкин, 1960. Т. 4. С. 9], man of dress, щеголь – кто это, как не герой романа в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин» (1823–1831)? Тип денди или «светского льва» послужил толчком для появления в Европе нового литературного жанра «модного романа» (англ. fashionable novel), героем которого он стал. Прототипом ему послужил знаменитый лондонский денди Джордж Брайен Браммел (1778–1840) [Disraeli, 1826; Bulwer-Lytton, 1828; Kelly, 2005], бросивший вызов общественному вкусу своей манерой одеваться и вызывающим поведением, противопоставляя «грубому мещанству “светской толпы” изнеженную утонченность индивидуалиста» [Лотман, 1994. С. 124]. Таким образом, дендизм был ни чем иным, как обрамлением личности нового модерного человека, с ярко выраженными чертами индивидуализма. Хотя понятно, что в случае с Пушкиным мы имеем дело не с чистым денди, так как он пользуется лишь его кодом поведения. Не случайно Ю. М. Лотман упоминал о Еропкиной, перед которой Пушкин явился, хотя и в утрированном виде, Раслто-ном – персонажем из «Пелэма», в котором отразились черты Браммела. Было ли это всего лишь желанием надеть маску денди [Лотман, 2003. С. 328]? Если взять более расширенное понятие дендизма, включающее в себя мировоззренческие аспекты индивидуализма, а не только жеманство и эффектную позу, то можно предположить, что это не только маска, но и определенный код поведения, присущий Пушкину в светской жизни.
Браммел послужил эталоном для установления дресс-кода дендизма, прототипом же Евгения Онегина стал другой знаменитый денди – лорд Байрон и его альтер-эго, Чайльд-Гарольд. Мы ни в коем случае не переносим черты пушкинского литературного героя на самого автора, что было бы грубым упрощением. Но это сопоставление дает нам косвенные указания на возможные параллели в поведении Пушкина.
Берлинский социолог Г. Эрбе так описывает денди: «Денди – это мужчина с простой, непритязательной элегантностью. Той элегантностью, которая является выражением определенной внутренней и жизненной установки. Он является вариантом экстравагантного джентльмена, выделяющегося своим превосходным вкусом, отточенными манерами, цинично-фривольной манерой общения […]. Он, безусловно, является человеком, слоняющимся без дела и отъявленным игроком. Это – живое противоречие: одиночка и человек общества, презирающий это общество и находящийся к нему всегда на дистанции, находясь в его гуще. Парадокс лежит в его природе» [Erbe, 2004. S. 31; 2002]. Это описание, за редким исключением, отражает поведение Пушкина в определенных жизненных ситуациях, особенно в период с 1817 по 1831 г. Так, например, «цинично-фривольная манера обращения» просматривается в его «напускном цинизме», «холодности» и «воло-кидстве» [Вересаев, 1990. Т. 2. С. 388, 441, 443, 444, 461, 466; Peschio, 2012].
Как тонко заметила И. А. Манкевич, «костюмные лики Пушкина и в повседневной жизни, и в живописных портретах столь же многообразны и неоднозначны, как и лики его души – его стиля мышления, чувствования, поведения» [Манкевич, 2009. С. 98; Лотман, 2003. С. 63–64]. Думается, будет преувеличением видеть в картине О. А. Кипренского 1827 г. стилизацию Пушкина как некое обобщение под героя своего времени [Манкевич, 2009. С. 97], или пойти еще дальше и решить, что на картине «изображен не столько сам Пушкин, сколько Пушкин в облике Онегина или, может быть, наоборот – Онегин в образе Пушкина» [Данилова, 2004. С. 111].
На плечо поэта наброшен плащ из клетчатой ткани «шотландки» 4, как намек на кумира того времени, английского поэта-романтика лорда Джорджа Ноэла Гордона Байрона (Gordon Byron) (1788–1824) и героя его поэмы – Чайльд-Гарольда, с которым «герой своего времени» Евгений Онегин имеет много общего [Майкапар, 2010. С. 35]. Не случайно Н. А. Полевой сравнил в 1825 г. Пушкина с Байроном, что «положило начало литературно-критической полемике о русском байронизме, которая продолжалась вплоть до конца 1850-х годов» [Полевой, 1996. С. 263, 266; Вайнштейн, 2005; Жирмунский, 1978; Люсова, 2006].
Любимец моды легкокрылой,
Хоть не британец, не француз,
Ты вновь создал, волшебник милый, Меня, питомца чистых муз […] Так Риму, Дрездену, Парижу Известен впредь мой будет вид
[Пушкин, 1959. Т. 2. С. 177].
Эти строки стихотворения 1827 г. Пушкин посвятил Кипренскому. Поэт сам дает нам понять контекст, в котором он увидел свой образ таким, каким он хотел бы, чтобы его видели в Риме, Дрездене, Париже: великосветским денди, поэтом, аристократом и европейцем [Вересаев, 1990. Т. 3. С. 127, 139]. Известно желание Пушкина до женитьбы поехать во Францию или в Италию (и даже в Китай!) [Вересаев, 1990. Т. 2. С. 447]. Все в этой картине говорит на языке европейской культуры, ставшей неотъемлемой, органической частью русской культуры. Пушкина можно назвать русским европейцем, одетым в европейское платье и практикующим европейский кодекс чести. Не забудем, что Пушкина в Лицее звали «француз» [Лотман, 2003. С. 330–331]. Но это – русский европеец.
Современнице Пушкина Е. Е. Синицыной, впервые встретившей его в 1828 г. на семейном балу в Старице, он показался иностранцем [Вересаев, 1990. Т. 2. С. 391]. Заметим еще одну характерную деталь: Пушкин, за некоторыми исключениями, почти всегда в черном: цвет фрака денди. Синицына писала далее: «Ходил он в черном сюртуке. На туалет обращал он большое внимание. В комнате, которая служила ему кабинетом, у него было множество туалетных принадлежностей, ногточисток, разных щеточек и т. п.» [Вересаев, 1990. Т. 2. С. 393].
Путешествие на Кавказ в Арзрум во время похода 1829 г. подтверждает этот характерный портрет поэта: «Пушкин носил и у нас щегольской черный сюртук, с блестящим цилиндром на голове…» [Вересаев, 1990. Т. 2. С. 429]. Необычное костюмное поведение Пушкина в расположении действующего военного корпуса бросалось многим в глаза. Хотя Пушкин не был бы собой, если бы и здесь не устроил «маскарада» с черкесским костюмом, вооружившись шашкой, кинжалом и пистолетом [Там же. Т. 2. С. 418–419].
Создается ощущение, что вырываясь из условностей столичного общества, Пушкин наслаждался возможностью нарушать этикет, не рискуя при этом получить выговор [Вересаев, 1990. Т. 2. С. 421, 422]. Надо сказать, что на всем протяжении своей жизни Пушкин получает самые противоречивые характеристики. То он небрежен к своей внешности и даже неряшлив [Вересаев, 1990. Т. 2. С. 446], то щепетилен и аристо- кратичен. Он чутко реагирует на происходящее вокруг него, настраивается на мелодию событий, интуитивно отдается течению жизни. В этом заключается типичная сторона его характера: игривая открытость, готовность пошалить, покутить, поиграть в карты, вступить в разговор с крестьянами, казаками, осетинами, калмыками [Там же. С. 371, 398, 418, 420, 422, 436, 446; Т. 3. С. 93–94].
Наездами в Петербурге, поэт ведет холостяцкий образ жизни, живя в Демутовой гостинице на Мойке. Приехав весной 1830 г. в Москву и остановившись по обыкновению у своего близкого друга П. В. Нащокина, он делает 6 апреля повторное предложение Наталье Николаевне Гончаровой (1812–1863). Собираясь ехать к ней, поэт заметил, что у него нет фрака: «Я свой не захватил, да, кажется, у меня и нет его» и попросил Нащокина одолжить ему свой. Сватовство на этот раз было удачное, что поэт в значительной мере приписывал фраку, так что Нащокин подарил его другу. С тех пор суеверный Пушкин, по его собственному признанию, надевал по важным случаям счастливый «нащокинский» фрак как талисман [Вересаев, 1990. Т. 2. С. 397, 458].
О его поведении денди в Петербурге, неприязни к какому бы то ни было мундиру и готовности фраппировать самого царя, красноречиво говорит замечание Николая I по поводу бала у французского посланника в январе 1830 г.: «Вы могли бы сказать Пушкину, что неприлично ему одному быть во фраке, когда мы все были в мундирах, и что он мог бы завести себе по крайней мере дворянский мундир» [Там же. С. 449]. В 1831 г. художник Г. Г. Чернецов запечатлел Пушкина в черном фраке во время парада на Царицыном лугу в Петербурге. Возможно, именно в нем он был на приеме у французского посланника. Фрак на Пушкине стоил около 150 руб., что примерно соответствовало эквиваленту цены мундира его прадеда, Абрама Петровича Ганнибала, на который 14 февраля 1705 г. было выдано из казны 15 руб. 15 алтын (15 р. 45 коп.) [Фредерикс, 1911. С. 185].
С годами семейной жизни Пушкин все больше предпочитает оставаться дома, предаваясь своим пристрастиям и творчеству: «В свете не бываю; от фрака отвык; в клобе провожу вечера», –писал он жене 29 мая 1834 г. [Вересаев, 1990. Т. 3. С. 45, 55].
К этому времени дендизм Пушкина проявлялся скорее не во внешних формах, а во внутренней установке индивидуалиста и понимании своей оппозиционности высшему свету и придворному обществу. Определение дендизма Барбэ д’Оревильи как нельзя лучше объясняет манеру одеваться и поведение Пушкина: «Дендизм – это манера жить, […] вся составленная из тонких оттенков». Денди – «это не ходячий фрак, напротив, только известная манера носить его создает дендизм. Можно оставаться денди и в помятой одежде» [д’Оревильи, 1912. С. 26–27, 29–30, 44, 56, 60; Марченко, 2001. С. 67]. Граф В. А. Соллогуб вспоминал: «Пушкин […] чувствовал себя почти всегда униженным и по достатку, и по значению в этой аристократической сфере, к которой он имел […] какое-то непостижимое пристрастие […] За это и он оказывал наружное будто бы пренебрежение к некоторым светским условиям, не следовал моде и ездил на балы в черном галстуке, в двубортном жилете, с откидными, накрахмаленными воротничками, подражая, может быть, невольно Байроновскому джентельменству; прочим же условиям он подчинялся» [Вересаев, 1990. Т. 3. С. 143–144].
В 1830-е гг. поэт-философ в Пушкине все чаще дает о себе знать в небрежении к своему туалету [Старк, 2010. С. 161: Вересаев, 1990. Т. 3. С. 91, 93]. В его жизненном стиле наблюдается определенная демократизация, выражающаяся, в частности, в мечте зажить «мещанином» в Петербурге и зарабатывать своей издательской деятельностью «трудовые деньги», хотя и преодолевая с большим трудом цензурные препоны [Вересаев, 1990. Т. 3. С. 82, 99]. Как это не вяжется с образом аристократа и денди, считающими любой труд недостойным для себя занятием.
Прямо противоположной теме фрака является тема мундира. Причем, нося мундир чиновника министерства иностранных дел, Пушкин так и не стал чиновником, как и не стал он камер-юнкером, эволюционировав к позиции умеренного либерала. Первый опыт с мундиром юный Пушкин получил в Царскосельском Лицее. Характерно, что всеобщее неудовольствие среди лицеистов вызвала смена в 1812 г. схожих с военной формой форменных синих сюртуков с красными воротниками и белых панталон на серые статского покроя и серые же брюки [Манкевич, 2009. С. 92].
«Жизнь военная представлялась молодому поэту в самом привлекательном виде» [Бартенев, 1855. С. 3], причем непременно в униформе блистательного кавалерийского офицера: Пушкин отлично фехтовал, был страстным наездником. Этой склонности способствовали юность на фоне «грозы двенадцатого года» и дружба уже в лицейские годы с кавалергардами, среди которых особенно выделялся упомянутый поручик лейб-гвардии гусарского полка П. Я. Чаадаев, служивший в Царском Селе. После окончания Лицея в 1817 г., Пушкин вместо вожделенного мундира кавалергарда [Вересаев, 1990. Т. 3. С. 128] получает 10-й чин коллежского секретаря и гражданский вицмундир, на службу ходит редко.
После ссылки и нескольких лет жизни в Петербурге, в ожидании женитьбы, 14.11.1831, – отставной коллежский секретарь А. С. Пушкин принят на службу тем же чином и определен вновь в Коллегию Иностранных дел [Вересаев, 1990. Т. 2. С. 524], что давало ему возможность дополнительного дохода от оклада в 5 000 руб. в год. 06.12.1831 он получает чин титулярного советника (и соответственно мундир, который он никогда и не думал носить), а указом от 31.12.1833 – придворное звание камер-юнкера [Там же. С. 524; Т. 3. С. 32].
Как известно, весь этот «карьерный рост», к которому Пушкин был совершенно безразличен, превращается со временем в досадное недоразумение, отравившее ему жизнь и вылившееся в трагедию. Оно не соответствовало статусу Пушкина как первого поэта России и било нещадно по его самолюбию аристократа.
Пушкин узнал о своем производстве в камер-юнкеры 30 декабря 1833 г. на балу в доме графа А. Ф. Орлова, что вызвало первоначально его резко негативную реакцию [Старк, 2010. С. 172, 190–191; Вересаев, 1990. Т. 3. С. 32–35, 67]. Н. М. Смирнов вспоминал: «Это его взбесило, ибо сие звание точно было неприлично для человека тридцати четырех лет, и оно тем более его оскорбило, что иные говорили, будто оно было дано, чтобы иметь повод приглашать ко двору его жену. […] Долго спорили, убеждали мы Пушкина; наконец полу-убедили. Он отнекивался только неимением мундира и что он слишком дорого стоит, чтоб заказать его (курсив наш. – А. К.). На другой день, узнав от портного о продаже нового мундира князя Витгенштейна, перешедшего в военную службу, и что он совершенно будет впору Пушкину, я ему послал его, написав, что мундир мною куплен для него, но что предоставляется его воле взять его или ввергнуть меня в убыток, оставив его на моих руках. Пушкин взял мундир и поехал ко двору» [1882. С. 239]. Как известно, являться на придворные балы в мундире камер-юнкера для Пушкина представляло не совсем приятную обязанность [Старк, 2010. С. 172, 190–191].
Согласно записи отставного штаб-ротмистра А. Н. Вульфа, 19 февраля 1834 г. он застал поэта «сильно негодующим на царя за то, что он одел его в мундир, его, написавшего теперь повествование о бунте Пугачева […] Он говорит, что он возвращается к оппозиции» [Вересаев, 1990. Т. 3. С. 37]. Десятого мая 1834 г. Пушкин сделал запись в дневнике: «Я могу быть подданным, даже рабом, но холопом или шутом не буду и у царя небесного» или: «Я, как Ломоносов, не хочу быть шутом ниже у Господа Бога» [Там же. С. 44, 46]. Его безразличие к придворному этикету вызывает постоянные нарекания царя, что чрезвычайно досаждает Пушкину. То он приезжает 26.01.1834 в Аничков в мундире вместо фрака, уезжает, чтобы переодеться и вернуться, но едет вместо этого на вечер к Салтыкову, на что Николай I несколько раз пеняет за вечер. То является 18.12.1834 в Аничков же в мундирном фраке, но в треугольной шляпе вместо круглой [Там же. С. 36, 68].
В 1834–1836 гг. Пушкин задумывает написать авантюрно-психологический роман из русской жизни «от декабристского Союза Благоденствия до притонов лесных разбойников» с главным героем денди под названием «Русский Пелам» [Пушкин, 1960. Т. 5. С. 510–512, 599–602], прообразом которому послужил роман английского писателя Э. Бульвер-Литтона «Пелэм, или Приключения джентльмена», увидевший свет в 1828 г. [Лотман, 2003. С. 168–169, 327–329]. Герой романа Бульвер-Литтона – аристократ и денди, законодатель моды. Его жизнь проходит в кругу высшего общества Парижа и Лондона и прерывается посещением притонов и публичных домов [Сидяков, 1973. С. 148; Peschio, 2012. P. 24]. Этот роман вызвал «восхищение Пушкина и повлия[л] на его некоторые литературные замыслы и даже, в какие-то мгновения, на его бытовое поведение» [Лотман, 1994. С. 124]. «Прирожденный барин» и аристократ – Пушкин предпочитает писать о том, что ему хорошо известно [Вересаев, 1990. Т. 3. С. 59, 68–69, 198].
Его оппозиционный аристократизм показателен в заметке об этикете 1833–1834 гг.: «Английский лорд, представляясь своему королю, становится на колени и целует ему руку. Это не мешает ему быть в оппозиции, если он того хочет» [Марченко, 2001. С. 325]. Возможно, именно в этом контексте следует рассматривать высказывание князя П. А. Вяземского в письме великому князю Михаилу Павловичу от 14.02.1837: «Нужно сознаться, – Пушкин не любил камер-юнкерского мундира. Он не любил в нем не придворную службу, а мундир камер-юнкера» [Вересаев, 1990. Т. 3. С. 34].
Дендизм органично сочетался у Пушкина как с его юным романтическим бунтарством, так и с умеренной либеральной оппозицией 1830-х гг. [Лотман, 2003. С. 133]. Лотман говорит о поведении романтического героя, которому отчасти следует Пушкин: «Английская [мода] допускала экстравагантность и в качестве высшей ценности выдвигала оригинальность. […] Дендизм приобретал окраску романтического бунтарства. Он был ориентирован на экстравагантность поведения, оскорбляющего светское общество, и на романтический культ индивидуализма. Оскорбительная для света манера держаться, неприличная развязность жестов, демонстративный шокинг. […] Такой стиль жизни был свойствен Байрону» [Лотман, 2003. С. 123–124; Greenleaf, 1994. P. 205–287].
Лучшие иностранные портные Петербурга придавали подчеркнутому европеизму поэта надлежащую форму: Пушкину претило покупать готовое платье, пусть даже в дорогих фешенебельных магазинах или модных лавках [Барт, 2003. С. 396]. В записи долгов А. С. Пушкина за 1836 г. находим портного «Руча», которому поэт был должен 500 руб. [Рукою Пушкина, 1935. С. 383–386]. В делах опеки имеется также счет от «Conrad Rutsch et C-ie» за сшитые Пушкину платья на 405 руб. Это говорит о том, что поэт был постоянным клиентом одного из лучших и самых дорогих портных столицы. Надо заметить, что в то время не считалось зазорным быть должным портному. Иметь долги такого рода входило в неписаные правила любого «джентельмена».
Придворный портной, уроженец Дюрена (Германия) Иоганн Конрад Рутч (Johann Conrad Rutsch) проживал недалеко от последнего адреса Пушкина на Мойке, 12, в собственном доме на углу Невского проспекта и Малой Морской улицы [Possart, 1842. S. 258]. Рутч добился высокого положения в обществе и заработал большое состояние, работая в Лондоне, Париже и в Петербурге [Келлер, 2015]. Кроме портного Рутча, находим и других его коллег, «обшивавших» Пушкина и его семью в эти годы. Согласно счету портного Ж. Бригеля (Briegel) от 10.08.1835 поэт уплатил ему 612 руб. Остальную сумму в 530 руб. портной получил от опеки. Сохранился и другой счет этого портного на сумму 1 065 руб. [Рукою Пушкина, 1935. С. 811]. Можно предположить, учитывая невнимательность поэта к своему туалету, что основная часть средств, потраченных на портных, шла на бальные наряды «царицы бала» Натальи Николаевны, которые должны производить впечатление при дворе: «Александр чрезвычайно рассеян: он слишком думает о своем хозяйстве, о своих ребятах и о туалетах своей жены» [Вересаев, 1990. Т. 2. С. 553; Т. 3. С. 88, 101]. У первого поэта [Sandler, 2004] 5 России жена должна была блистать первой красавицей на придворных балах, платья которой шил первый портной столицы. Принцип тождества должен был восторжествовать, чтобы действительность не превратилась в фарс. Даже после смерти Пушкин не подчинился придворному этикету, защитив свою независимость и показав свой выбор. Его хоронили в цивильном платье, и это было глубоко символично.
Существенным представляется факт, что прощались с Пушкиным, отпевали и хоронили его не в камер-юнкерском мундире, как того требовало его придворное звание, а, как предположила В. А. Нащокина, в «нащокинском» фраке. Наталья Николаевна действительно распорядилась похоронить своего мужа в цивильном платье, и вполне вероятно, что это был именно его любимый «нащокинский» фрак, который был ей до- рог, как воспоминание о сватовстве Пушкина. Николай I, в который уже раз, выразил неудовольствие нарушением этикета [Манкевич, 2009. С. 96]. Но был ли это тот фрак на самом деле? Ведь у очевидцев прощания находим противоречивые сведения.
Единственный, кто говорит о «лю-бим[ом] его темно-коричнев[ом] с отливом (а не черн[ом], как это описывал барон Бюлер) сюртук[е]», это В. П. Бурнашев [Вересаев, 1990. Т. 3. С. 268–269]. Все остальные говорят либо о черном сюртуке (М. М. Михайлов, К. Н. Лебедев), либо о черном фраке (Я. П. Языков, В. Н. Давыдов). Барон Ф. А. Бюлер замечает, что «платье на Пушкине было из черного сукна, старого фасона и очень изношенное». Подобную разницу в свидетельствах можно отнести на счет плохого освещения в полутемном, предположительно в лакейской или в передней, помещении с двумя занавешенными окнами, в котором гроб с телом Пушкина был выставлен для прощания [Вересаев, 1990. Т. 3. С. 263, 268–270, 276].
На рисунке проф. Ф. А. Бруни и картине его ученика А. А. Козлова «Пушкин на смертном одре» видно, что тело поэта закрыто по грудь, так что, действительно, трудно определить, фрак это или сюртук, но определенно черного цвета. Как известно, верхняя часть этих предметов гардероба была схожего фасона.
Вернемся к антитезе «фрак–мундир». Сохранив внутреннюю свободу, Пушкин не стал рабом власти, света, моды, что отчасти выражалось в его предпочтении фраку перед мундиром. Князь Павел Вяземский писал о желании Пушкина щеголять «презрением к требованиям гражданского строя» [Там же. С. 137–138]. «Его нервная, ревнивая и гордая натура нелегко укладывалась в тогдашние рамки “приличий”» [Раев, 2001. C. 268–271]. На похоронах тело покойного было одето во «фрак-сюртук», причем «в черных фраках были только лакеи», что было очередным, правда, непреднамеренным, афронтом поэта. После отпевания в церкви «на паперти стали появляться лица в полной мундирной форме; военных было немного, но большое число придворных (вероятно по случаю того же камер-юнкерства)» [Вересаев, 1990. Т. 3. С. 279].
Итак, на первый взгляд Пушкин – денди по поведению и привычкам: игрок, сердцеед, щеголь. Он пользуется эстетическим языком, кодом дендизма, используя черты типичного денди во внешнем облике и поведении. Но дендизм здесь не самоцель: Пушкин никогда не следует слепо моде. Он пользуется его психологическим и поведенческим инструментарием в повседневности, чтобы дистанцироваться от общества посредством индивидуализма, свободы от условностей, неподчинения мейнстриму. В кругу друзей ему свойственны – искренняя любовь и самозабвенная дружба, с литераторами он «очень прост, любезен и до утонченности вежлив в обхождении, никому не давая чувствовать своего авторитета» [Там же. С. 90].
Варианты костюмного поведения, таким образом, становятся своего рода аксиологическим кодом, раскрывающим внешнее воплощение изменений взглядов и жизненных установок поэта в разные периоды его жизни.
Список литературы Гражданский фрак и военный мундир в жизни А. С. Пушкина. Судьба костюма и судьба поэта
- Барт Р. Дендизм и мода // Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры / Сост., пер. с фр. и вступ. ст. С. Н. Зенкина. М., 2003. C. 393-398.
- Бартенев П. И. Александр Сергеевич Пушкин: Материалы для биографии // Литературные прибавления к «Московским ведомостям». 1855. № 442, 444 и 145 (отдельный оттиск).
- Бердник Т. О. Архитектоника костюма (социокультурная динамика): Автореф. дис. … канд. филос. наук. Ростов н/Д, 2004. 23 с.
- Брюсов В. Я. Мой Пушкин. Статьи, исследования, наблюдения. М.; Л.: Госиздат, 1929. 319 с.
- Быстрова Я. В. Символические функции костюма в культуре: Автореф. дис. … канд. филос. наук. Новгород, 2003. 18 с.
- Вайнштейн О. Б. Денди: мода, литература, стиль жизни. М.: НЛО, 2005. 638 с.
- Вересаев В. В. Соч.: в 4 т. М.: Правда, 1990. Т. 2: Пушкин в жизни: Систематический свод подлинных свидетельств современников. 558 с.; Т. 3: Пушкин в жизни. Гоголь в жизни. 559 с.
- Галкин А. Б. Герои и сюжеты русской литературы: имена, образы, идеи. М.: Флинта, 2012. 597 с.
- Глинка В. М. Русский военный костюм XVIII - начала XX века. Л.: Художник РСФСР, 1988. 237 с.
- Гроссман Л. П. Литературные биографии. М.: АСТ, 2013. 540 с.
- Гурова О. Ю. Социология моды: обзор классических концепций // Социол. исследования. 2011. № 8. С. 72-82.
- Данилова И. Е. «Исполнилась полнота времен…». М.: РГГУ, 2004. 589 с.
- Жирмунский В. М. Байрон и Пушкин. Л.: Наука, 1978. 423 с.
- Жихарев М. И. Докладная записка потомству о Петре Яковлевиче Чаадаеве. М.: Директ-Медиа, 2007. 72 с. URL: http://www. directmedia.ru (дата обращения 12.02.2015).
- Историко-этимологический словарь современного русского языка. 3-е изд. М.: Рус. яз., 1999. Т. 2. 560 с.
- Калашникова Н. М. Народный костюм: семиотические функции. М.: Сварог и К, 2002. 374 с.
- Келлер А. В. Петербургский портной - законодатель мод первой половины XIX века // Россия XXI. 2015. № 1. C. 92-111.
- Кирсанова Р. М. Русский костюм и быт XVIII-XIX веков. М.: Слово, 2002. 220 с.
- Крейк Дж. Краткая история униформы. М.: НЛО, 2007. 240 с.
- Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII - начало XIX века). СПб.: Искусство-СПб, 1994. 398 с.
- Лотман Ю. М. Пушкин: Биография писателя. Статьи и заметки. 1960-1990. «Евгений Онегин». СПб.: Искусство-СПб, 2003. 847 с.
- Люсова Ю. В. Рецепция Д. Г. Байрона в России 1810-1830-х годов: Автореф. дис. … канд. филол. наук. Нижний Новгород, 2006. 18 с.
- Майкапар А. Е. Орест Адамович Кипренский, 1782-1836. М.: Директ-Медиа Комсомольская правда, 2010. 48 с.
- Манкевич И. А. Костюмные тексты в произведениях А. С. Пушкина в культурологическом прочтении // Вестн. Томск. гос. ун-та. 2008. № 310. С. 31-37.
- Манкевич И. А. Поэтика костюма в повседневной жизни А. С. Пушкина: культурологические сюжеты // Вестн. Томск. гос. ун-та. 2009. № 318. С. 92-98.
- Марченко Н. А. Приметы милой старины. Нравы и быт пушкинской эпохи. М.: Изограф, 2001. 366 с.
- Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. М.: Мириобразование, 2013. 736 с.
- Оревильи Б. д’. Дендизм и Джордж Брамель. М.: Альциона, 1912. 114 с.
- Полевой Н. А. «Евгений Онегин», роман в стихах. Сочинение Александра Пушкина // Пушкин в прижизненной критике, 1820-1827. СПб., 1996. С. 262-266.
- Пушкин А. С. Собр. соч.: В 10 т. / Под ред. Д. Д. Благого и др. М.: Худож. лит., 1959. Т. 2. 799 с.; 1960. Т. 4. 595 с.; Т. 5. 660 с.
- Раев М. Рец. на кн.: Скрынников Р. Г. Дуэль Пушкина. 2-е доп. изд. СПб.: Русско-Балтийский информационный центр, 1999. 495 с. // Новый журнал. 2001. № 225. С. 268-271.
- Рукою Пушкина: Несобранные и неопубликованные тексты. М.; Л.: Академия, 1935. 926 с.
- Свендсен Л. Философия моды / Пер. с норв. А. Шипунова. М.: Прогресс-Традиция, 2007. 256 с.
- Сидяков Л. С. Художественная проза А. С. Пушкина. Рига: Изд-во Латв. гос. ун-та, 1973. 218 с.
- Словарь языка Пушкина: В 4 т. / Под ред. В. В. Виноградова, С. Г. Бархударова, Б. В. Томашевского. М.: ГИС, 1956. Т. 1. 806 с.; 1957. Т. 2. 896 с.; 1961. Т. 3. 1045 с.
- Смирнов Н. М. Из памятных заметок // Русский архив. 1882. № 2. С. 227-244.
- Старк В. П. Наталья Гончарова. М.: Молодая гвардия, 2010. 536 с.
- Франк С. Л. Этюды о Пушкине. Париж: YMCA-PRESS, 1987. 127 с.
- Фредерикс В. Б. (сост.). 200-летие Кабинета Е. И. В. 1704-1904. СПб.: Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1911. 526 с.
- Цесевичене О. А. «Свое - чужое» в русской моде XVII-XX вв.: философско-культурологический анализ: Автореф. дис. … канд. филос. наук. Омск, 2011. 22 с.
- Цзя Я. Семиотика моды (костюма) в контексте межкультурной коммуникации: Автореф. дис. … канд. культурологии. Иваново, 2011. 19 с.
- Цимбаева Е. Н. Исторический контекст в художественном образе (Дворянское общество в романе «Война и мир») // Вопр. литературы. 2004. № 5. С. 175-215.
- Эйдельман Н. Я. Твой девятнадцатый век. М.: Дет. лит., 1980. 271 с.
- Bulwer-Lytton E. Pelham: Or the Adventures of a Gentleman. 3 vol. set. London: H. Colburn, 1828. 339; 316; 366 p.
- Disraeli B. Vivian Grey. 5 vol. set. London: H. Colburn, 1826. 268; 238; 334; 364; 326 p.
- Erbe G. Dandys. Virtuosen der Lebenskunst. Eine Geschichte des mondänen Lebens. Köln: Böhlau, 2002. 346 S.
- Erbe G. Der moderne Dandy // Aus Politik und Zeitgeschichte. Männer in der Gesellschaft. 2004. Bd. 46. S. 31-38. URL: http://www.bpb.de/ apuz/27987/der-moderne-dandy#art0 (дата обращения 21.01.2015).
- Golburt L. The First Epoch: The Eighteenth Century and Russian Cultural Imagination. Madison: University of Wisconsin Press, 2014. 402 p.
- Greenleaf М. Pushkin and Romantic Fashion: Fragment, Elegy, Orient, Irony. Stanford: Stanford Univ. Press, 1994. 412 p.
- Kelly I. Beau Brummell: the Ultimate Dandy. London: Hodder & Stoughton, 2005. 578 p.
- Mayerhofer-Llanes A. Frack // Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte. 2006. Bd. 10. Sp. 443-454. URL: http://www.rdklabor.de/ wiki/Frack (дата обращения 25.02.2015).
- Peschio J. The Poetics of Impudence and Intimacy in the Age of Pushkin. Madison: University of Wisconsin Press, 2012. 160 p.
- Possart F. Wegweiser für Fremde in St. Petersburg oder ausführliches Gemälde dieser Hauptstadt und ihrer Umgebung. Heidelberg: Engelmann, 1842. 294 S.
- Sandler S. Commemorating Pushkin: Russia's Myth of a National Poet. Stanford: Stanford University Press, 2004. 432 p.