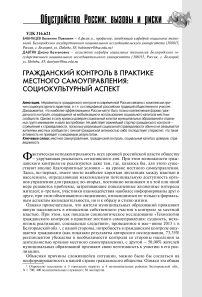Гражданский контроль в практике местного самоуправления: социокультурный аспект
Автор: Бабинцев Валентин Павлович, Давтян Диана Вазгеновна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Обустройство России: вызовы и риски
Статья в выпуске: 2, 2016 года.
Бесплатный доступ
Неразвитость гражданского контроля в современной России связана с комплексом причин социокультурного характера, в т.ч. со спецификой российских традиций общественного участия. Доказывается, что наиболее эффективными в России могут быть только коллективные формы гражданского контроля, опирающиеся на мобилизацию и использование социального капитала местных сообществ. Однако в силу кризиса доверия социальный капитал муниципальных образований и отдельных групп минимален и мало востребован. Не действует важнейший стартер гражданского контроля - стремление к справедливости, поскольку реализация социальной справедливости обычно не связывается жителями местных сообществ с личной гражданской активностью, либо господствует стереотип, что такая активность не приведет к ожидаемым результатам.
Местное самоуправление, гражданский контроль, социальный капитал, доверие, справедливость
Короткий адрес: https://sciup.org/170168295
IDR: 170168295 | УДК: 316.621
Текст научной статьи Гражданский контроль в практике местного самоуправления: социокультурный аспект
Ф актическая неподконтрольность всех уровней российской власти обществу – удручающая реальность сегодняшнего дня. При этом возможности гражданского контроля не реализуются даже там, где, казалось бы, для этого существуют вполне благоприятные условия – на уровне местного самоуправления. Здесь, во-первых, имеет место наиболее короткая дистанция между властью и населением, определяющая максимальную потенциальную доступность органов управления для граждан; во-вторых, постоянно возникают и в той или иной мере решаются проблемы, затрагивающие повседневные жизненные интересы жителей; в-третьих, участники взаимодействия наиболее информированы друг о друге, при этом обмениваются сведениями, относящимися не только к формальным аспектам жизнедеятельности, но и к образу и стилю жизни.
Однако примечательно, что жители муниципальных образований проявляют явную пассивность в отношении собственного участия в контроле за местной властью. При этом, как показало социологическое исследование «Технологии гражданского контроля в практике местного самоуправления: сущность, механизмы реализации, социальные следствия», проведенное в мае–июне 2013 г. в Белгородской обл. 1 , с одной стороны, потребность в гражданском контроле ощущается гражданами (как показали результаты авторского исследования, 73,35% респондентов убеждены в необходимости контроля со стороны населения за деятельностью органов местного самоуправления), с другой – 50,00% жителей муниципальных образований признают свою неготовность к участию в его реализации.
Объясняя причины сложившейся ситуации, можно было бы сослаться на несформированность в нашей стране гражданского общества. Однако эта общая отсылка мало что объясняет хотя бы потому, что гражданское общество формируется как следствие общественной позиции и активности граждан. Если следовать Г. Гегелю, контроль граждан над властью – это результат общественнонравственного развития в сфере взаимодействия частных и коллективных интересов. Он воплощает в себе идеи гражданской свободы, единства и взаимосвязи общественного организма в контексте духовно-исторического развития общества [Гегель 1990: 86].
Очевидно, что, объясняя причины пассивного отношения большей части населения к участию в гражданском контроле, как и общественной пассивности в целом, следует учитывать комплекс обстоятельств, в т.ч. и историко-культурного характера. Гражданский контроль как вид общественной практики всегда конкретен, определяется наличными условиями, общественным интересом и сформировавшимися в течение истории социокодами поведения. Вне социокультурного контекста невозможно понять эволюцию экстраполированных на российские условия идей и практик гражданского контроля, первоначально разработанных и примененных в рамках европейской цивилизации. В западной цивилизации Модерна контроль граждан над властью рассматривался как необходимое и естественное поведение рационально мыслящего индивида (налогоплательщика), ясно осознающего свои интересы и готового защищать их лично, а при необходимости – в объединении с себе подобными. Но в России практики индивидуальной гражданской активности и гражданского контроля фактически никогда не были развиты. Эпизоды, когда общество пыталось оказать контролирующее воздействие на власть (при этом преимущественно на местную), как правило, связаны с коллективными формами осуществления этой деятельности, будь то крестьянская община в дореволюционной России или же трудовые коллективы советской эпохи. Элементы гражданского контроля (очевидно, что как системное явление в России он отсутствовал) мыслились и допускались только в контексте опоры на «других» – в виде результата коллективных интеракций и действий коллективного гражданина.
Именно поэтому потенциальная возможность осуществимости гражданского контроля в нашей стране всегда зависела наличия у его субъектов социального капитала, который, согласно П. Бурдье, представляет собой агрегацию действительных или потенциальных ресурсов, связанных с включением в прочные сетевые или относительно институционализированные отношения взаимных обязательств или признаний [Бурдье 2002: 64]. В основе социального капитала лежит феномен доверия. И в данном контексте практика гражданского контроля в России не была (и пока не может быть) ничем иным, как технологией реализации базирующегося на взаимном доверии социального капитала граждан, направленной на независимую от власти оценку комплекса управленческих практик с точки зрения их соответствия ценностям и общественному интересу, реализуемой объединениями граждан и – в современных условиях – сетевыми сообществами .
Но для большинства местных сообществ в России характерен кризис доверия. По данным исследования «Эффективность социальных сетей в региональном сообществе», проведенного кафедрой социальных технологий БелГУ в 2010 г. и включавшего анкетный опрос населения ( N = 1000) [Социальные сети… 2011: 125], можно констатировать, что уровень межличностного доверия в обществе относительно низок. Показательно, что на вопрос: «Как Вы считаете, большинству людей можно или нельзя доверять?» – положительно ответили лишь 33,10% респондентов, отрицательно – 51,50%, затруднились с ответом – 15,40%.
Отметим, что результаты исследования достаточно близки к данным, полученным в этот же период и другими социологами. Так, например, по данным исследований ФОМа в августе 2012 г., отвечая на вопрос: «Как вы считаете, большинству людей можно доверять или в отношениях с людьми следует быть осторожными?» – 82,00% опрошенных выбрали вариант «с осторожностью»1.
Дефицит межличностного доверия не позволяет потенциальным субъектам гражданского контроля объединиться, а индивидуальный контроль в российской ситуации крайне редок, к тому же обычно осуществляется в приватной сфере, т.е. связан с решением преимущественно индивидуально значимых проблем.
Разумеется, дефицит межличностного доверия распространяется у жителей муниципальных образований не на все окружение. Граждане по-прежнему высоко ценят семейно-родственные связи. Исследование «Оценка эффективности реализации стратегии “Формирование регионального солидарного общества”» (проведено кафедрой социальных технологий БелГУ в 2014 г., N = 1000) показало, что наиболее значимыми семейными ценностями для российских граждан являются любовь и верность (42,50%), взаимное уважение и дружба (32,80%), согласие (24,50%), забота о детях (24,30%).
Распределение ответов отражает специфику отечественной социокультурной традиции, в которой любовь и верность всегда относились к приоритетам человеческого бытия. И. Ильин, в частности, подчеркивал: «Русская идея есть идея сердца. Идея созерцающего сердца… Она утверждает, что главное в жизни есть любовь и что именно любовью строится совместная жизнь на земле, ибо из любви родится вера и вся культура духа» [Ильин 1993: 420].
Но вполне естественная сосредоточенность человека на семейно-родственных ценностях в определенных пределах оказывает негативное влияние на формирование гражданской активности и перспективы гражданского контроля на местном уровне. Происходит это потому, что в российской действительности у большинства населения не сформировано представление о жесткой зависимости семейного взаимопонимания и комфорта от возможности влиять на власть. Скорее семейные практики и практики местного самоуправления представляются мало связанными друг с другом. В результате потенциал семейнородственной среды как пространства, где на основе доверия может быть сформирован социальный капитал, конвертируемый в гражданское участие, оказывается невостребованным.
К тому же ориентация на семейно-родственную среду означает формирование социального капитала по достаточно ограниченной с точки зрения социальной перспективы модели групповой солидарности, характерной чертой которой часто является групповой эгоизм.
Гражданская активность в России, в тех случаях, когда она все же имела место, практически всегда была связана с апелляцией к справедливости. И сегодня, казалось бы, крайне актуальная идея справедливости может выступать стартером гражданского контроля. Отметим, что потребность в справедливости, как правило, является следствием ощущения ее дефицита, что и имеет место сегодня.
Результаты исследования «Оценка эффективности реализации стратегии “Формирование регионального солидарного общества”» показывают довольно значимое расхождение между нормативной значимостью ценности справедливости в сознании населения и удовлетворенностью ее реализацией на практике. В повседневных коммуникациях с другими людьми с несправедливостью часто встречаются 33,10% опрошенных. Только 35,90% респондентов удовлетворены реализацией этого принципа.
В качестве основных проявлений несправедливости респонденты называют безнаказанность тех, у кого есть деньги и связи (25,70%); резкое разделение людей на богатых и бедных (23,60%); отсутствие у людей равных возможностей для получения хорошей работы (17,80%); нарушение принципа «закон один для всех»; невозможность для простых людей защитить свои права (14,10%) и безразличие власти к мнению людей (13,40%). Поэтому в ежегодном докладе Общественной палаты Белгородской области «О состоянии гражданского общества в Белгородской области в 2014 году» вполне обоснованно отмечается: «…для белгородцев чрезвычайно важной является задача обеспечения разумного соотношения справедливости и законности. При этом почти половина белгородцев (по России – 40% граждан) считает, что справедливость в обществе имеет приоритетное значение, даже если законодательство в том или ином случае такую справедливость не обеспечивает»1.
Представление о дефиците справедливости довольно естественно выражается в виде недостаточной удовлетворенности работой органов местного самоуправления. При этом в городах областного подчинения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (района) удовлетворены 52,88% респондентов, в поселках – 50,38%; на селе – всего 41,90%. Но именно на селе гражданский контроль менее всего распространен.
Проблема заключается в том, что так и не истребленное в ходе радикального реформирования стремление россиян в справедливости, как правило, сочетается с неуверенностью в реальности ее достижения. И это противоречие создает устойчивый барьер для гражданского контроля в виде убеждения, что он ничего не изменит. Данный барьер служит оправданием неучастия в гражданских акциях для значительной части граждан.
Сложившийся стереотип дополняется скрытым или иногда отрытым противодействием внедрению практик гражданского контроля со стороны муниципальных руководителей и служащих. По мнению опрошенных нами экспертов, муниципальные служащие в настоящее время не готовы к контролю со стороны общества (в этом убеждены 60% респондентов). Причинами этого эксперты считают незаинтересованность органов и должностных лиц местного самоуправления в развитии системы гражданского контроля (60,00%), высокую степень бюрократизации системы местного самоуправления (55,00%), боязнь ответственности перед населением (50,00%). 35,00% экспертов основной причиной отсутствия готовности муниципальных служащих к контролю со стороны общества называют их ориентацию на административный процесс, а не на результат.
Эти данные подтверждают ответы муниципальных служащих. Так, на вопрос: «Готовы ли Вы содействовать развитию технологий гражданского контроля в практике местного самоуправления?» – 48,35% ответили: «да, готов к содействию», 32,32% – «нет, мне это безразлично», 5,85% – «нет, буду противодействовать». При этом 39,62% муниципальных служащих утверждают, что современная система местного самоуправления полностью отражает интересы населения и не нуждается в контроле.
Есть серьезные основания полагать, что демонстрация муниципальными служащими готовности к содействию гражданскому контролю и убежденности в его необходимости носит скорее формальный, чем реальный характер и выражается в использовании гражданской риторики в силу давления внешних обстоятельств. Показательно в данной связи, что 51,77% муниципальных служащих на вопрос: «Готовы ли Вы лично к контролю за Вашей деятельностью со стороны общества?» – ответили положительно. Но к предпочтительным формам взаимодействия они отнесли: общественные экспертизы решений (41,89%), обсуждение проектов и решений в СМИ (32,43%), социологический мониторинг (31,53%), интернет-форумы, обсуждения проектов решений и нормативно-правовых актов (29,28%). Работать непосредственно с обращениями граждан готовы лишь 18,47% опрошенных. 26,77% муниципальных служащих не распложены к контролю в силу различных причин. Так, 33,91% из них утверждают, что контроль помешает работе, 29,57% не имеют представления о содержании гражданского контроля, а 30,43% считают контроль вообще излишним.
В результате вновь складывается парадоксальная ситуация. С одной стороны, муниципальные служащие не отрицают актуальности и необходимости гражданского контроля и в некоторых случаях даже готовы содействовать контрольной деятельности со стороны граждан. С другой – большинство опрошенных предпочитают формы контроля, не предполагающие непосредственное взаимодействие с населением. А значительная часть респондентов убеждены, что современная система местного самоуправления полностью удовлетворяет предъявляемым к ней требованиям и не нуждается в контроле. Для этих чиновников наиболее приемлемыми являются формы контроля, которые можно относительно легко имитировать.
Таким образом, проведенные исследования дают основание утверждать, что в российских муниципальных образованиях отсутствуют реальные условия для реализации гражданского контроля. В то же время муниципалитеты не могут не учитывать вызовы современности, в т.ч. формулируемые федеральной, а иногда и региональной властью. Эти вызовы напрямую связываются с повышением гражданской активности и применением контролирующих практик (достаточно в данной связи обратить внимание на закон «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»). Но при дефиците реальных предпосылок гражданский контроль скорее всего превратится в очередную систему имитаций.
Однако это не значит, что общественности и властям не следует пытаться изменить ситуацию в лучшую сторону. Но, очевидно, изменения должны быть связаны не только (и не столько) с технологическими решениями, но с модификацией ценностей местных сообществ и с их консолидацией.
Список литературы Гражданский контроль в практике местного самоуправления: социокультурный аспект
- Бурдье П. 2002. Формы капитала. -Экономическая социология. № 5. С. 60-74
- Гегель Г.В.Ф. 1990. Философия права (пер. с нем.). М.: Мысль. 228 с
- Ильин И.А. 1993. Собрание сочинений. В 10 т. М.: Русская книга. Т. 2. Кн. 2. 478 с
- Социальные сети в региональном сообществе (под ред. В.П. Бабинцева, Е.В. Реутова). 2011. Белгород: Константа. 239 с