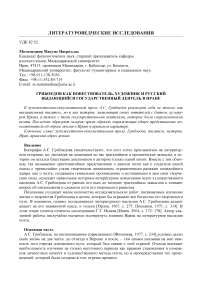Грибоедов как повествователь, художник и русский выдающийся государственный деятель в Иране
Автор: Мотамедния Масуме Насроллах
Журнал: Евразийский гуманитарный журнал @evrazgum-journal
Рубрика: Литературоведческие исследования
Статья в выпуске: 1, 2018 года.
Бесплатный доступ
В художественно-документальной прозе А.С. Грибоедов реализует себя не только как талантливый писатель, но и как историк, знакомящий своих читателей с бытом, культурой Ирана, а также с теми государственными деятелями, которые были современниками поэта. Последние образуют галерею ярких образов, выражающих общее представление повествователя об образе жизни в Иране и иранском характере.
Художественно-документальная проза, грибоедов, писатель, историк
Короткий адрес: https://sciup.org/147227654
IDR: 147227654 | УДК: 82''02
Текст научной статьи Грибоедов как повествователь, художник и русский выдающийся государственный деятель в Иране
Биографы А.С. Грибоедова свидетельствуют, что поэт хотел прославиться на литературном поприще, но, несмотря на дошедшие до нас трагедийные и прозаические замыслы, в истории он остался блестящим дипломатом и автором только одной книги. Вместе с тем обычное, так называемое хрестоматийное представление о данном поэте как о создателе одной пьесы с чрезвычайно узким творческим диапазоном, ограниченным рамками комедийного жанра, как о поэте, создавшем гениальное произведение и истощившем в нем свои творческие силы, искажает правильное историко-литературное осмысление всего художественного наследия А.С. Грибоедова от ранних его пьес до поздних трагедийных замыслов и снимает вопрос об интенсивном и сложном пути его творческого развития.
Положение ухудшает малое количество исследовательских работ, посвященных изучению жизни и творчества Г рибоедова в целом, которые бы отражали все богатство его творческого пути. В основном, однако, исследователи литературного наследия А.С. Грибоедова делают акцент на его знаменитой пьесе, и только [Орлов, 1967, с. 275; Писканов, 1971, с. 334]. В этом плане хочется отметить исследование Г.Г. Исаева [Исаев, 2004, с. 172-178]. Автор указанной работы неслучайно пытается подчеркнуть влияние Ирана на литературное наследие поэта.
Основная часть
А.С. Грибоедов, по воспоминаниям современнико [Фомичева, 1977, с. 234],условно делил свою жизнь на две части: до отъезда в Персию и после, - тем самым указывая на всю важность того отрезка жизненного пути, который был связан с этой страной. Отсюда вытекает необходимость изучения не только восточного периода как времени становления и изменения личностных качеств и художественного метода поэта, но и непосредственно тех произведений, который были созданы в этот отрезок времени.
Г.Г. Исаев отмечает тот факт, что весь «небольшой по объему корпус произведений об Иране» был создан АС. Грибоедовым в период его дипломатической службы в данной стране [Исаев, 2004, с. 172]. Поскольку вследствие «утраченной веселости» (202) и отсутствия русскоязычной аудитории поэт не пишет стихов, то на первый план выходят его прозаические сочинения, созданные в это время1.
Современное литературоведение, которое рассматривает «деловую прозу» А С. Грибоедова как прозу художественную, тем самым определяет своеобразие большинства прозаических сочинений поэта об Иране. Это - дневник, записки, очерки, письма, обзоры положения дел в Иране и т.д.
В высшей степени интересный и ценный раздел литературного наследия А С. Грибоедова составляют его письма. Подобно А С. Пушкину, он был большим мастером эпистолярного жанра, поэтому его письма служат не только важным источником биографических сведений, но имеют также и собственно литературное значение. Они изобилуют живыми сценами и меткими «портретными» характеристиками, написаны превосходным красочным и гибким языком, в котором, запечатлены индивидуальные особенности речевой манеры А С. Грибоедова.
Следует отметить, что А С. Грибоедов-повествователь в своих письмах предстает перед читателями в трех ипостасях. Во-первых, это светский человек, дворянин, как говорил о нем А. Блок, «с лицом холодным и тонким», «ядовитый насмешник и скептик», «с лермонтовской желчью и злостью в душе» [Эйдельман, 1987, с. 26-35]. Поэтому вполне оправдана реакция А С. Грибоедова на назначение его секретарем дипломатической миссии в Персии: светский человек приходит в ужас от мысли о предстоящей «добровольной ссылке» (504) -«жестоко бы было мне цветущие лета свои провести между дикообразными азиятцами» (504), «...Персия! дурацкая страна!» (507).
После непосредственного пребывания в Иране негативный взгляд жителя столицы России не изменился - «скучная Персия» (533), «унылая страна, где не только нельзя чему-либо научиться, но забываешь и то, что знал прежде» (533). А С. Грибоедова терзает «скука и отвращение» (538), душевная пустота, одиночество. С позиции «насмешливого наблюдателя» он восклицает «что за нравы!» (521) и иронически отмечает чрезмерную «персидскую учтивость» (406), «бесстыдную лесть» (412), «неугомонное любопытство и неотвязчивость» (406), «пустую роскошь» их жизни (412).
Объективно он оценивает деспотический режим, царивший в Иране в то время, с его коррупцией и произволом, интригами, жестокостью и коварством. В то же время он не лишает себя удовольствий: «...мой домик... загляденье на Востоке. И каких бы вы женщин у меня нашли! Именно не одну, а многих, и одна прелестнее другой» (528).
Вторая ипостась - художник. Это тот человек, для души которого «ничего нет чужого» (536), это тот человек, который может дистанцироваться от собственной неприязни к стране, чтобы реально оценить все достоинства Ирана: «Чудное небо! Нигде звезды не светят так ярко, как в этой скучной Персии!» (533).
«Напитанный древними сказаньями», он постепенно в свою корреспонденцию начинает вводить как пословицы - Шарулъ-бело из кана ла садык - в пер. худшая из стран - место, где нет друга (523) - так и целые легенды и сказания, описания странных для европейца традиций, религиозных обычаев. Но лучше всего художественное, поэтическое начало А С. Грибоедова-повествователя проявляется в том слове, которым написаны письма. Здесь совмещаются два стиля - разговорный и художественный, придавая тем самым своим сочинениям большую живость, динамику, яркость, образность.
Третья ипостась героя писем - выдающийся государственный деятель, секретарь дипломатической миссии, а позднее и дипломат, верой и правдой служащий своей стране. Так, патриотизм пронизывает все мысли, чувства и действия этого выдающегося человека.
«Мне не случалось в жизни ни в одном народе видеть человека, который бы так пламенно, так страстно любил свое отечество, как Грибоедов любил Россию, - вспоминал С.Н. Бегичев. - Он в полном значении обожал ее. Каждый благородный подвиг, каждое высокое чувство, каждая мысль в русском приводили его в восторг» [Краснов, Фомичев, Тархова, 1994, с. 126]. Патриотизм в понимании АС. Грибоедова - это безотказное служение Родине, поддержание ее статуса как сильнейшей державы, способствование всеми силами процветанию родного отечества. «Слава богу, я поставил себя здесь на такую ногу, что меня боятся и уважают. Дружбы ни с кем не имею, и не хочу ее, уважение к России и ее требованиям, вот что мне нужно» (637).
Следует обратить внимание также на путевые записки А С. Грибоедова - «Путевые письма к С.Н. Бегичеву», «Путешествие от Тавриза до Тегерана», собственно «Путевые записки» и др. Несмотря на их фрагментарность и лапидарность, они раскрывают поэта еще с одной стороны, представляя его как пытливого исследователя, историка, этнографа, лингвиста.
Наряду с другими прозаическими сочинениями, путевые записки показывают широту интеллектуальных интересов А С. Грибоедова, свидетельствуют об его основательной учености. В.Н. Орлов, отмечая высокий интеллект поэта, писал: «Иного, грядущего века гражданином предстает перед нами Грибоедов, светлый ум которого, гармоническая личность и деятельная натура принадлежат к самым могучим проявлениям русского духа» [Орлов, 1954, с. 32]. На первом плане здесь - автобиографический герой-путешественник, с документальной точностью и высокой детализацией отражающий реальную действительность.
Грибоедовские путевые записки изобилуют зарисовками природных пейзажей, в которых постоянно отмечаются специфические национальные черты: «...день короткий, бессолнечный; с обеих сторон пригорки, слои белые, глинистые, из которых дома строятся. Возле самого Тавриса красные, пшеничные загоны, борозды под малым снегом похожи на овощные огороды. Место довольно гористое, 2 S станции. Раскинутые сады, тополи, славные квартиры в деревнях...» (414).
Периодически в пейзажи включаются описания архитектурных построек - как имеющих историко-культурное значение памятников, так и простых домов, в которых большое внимание уделяется внутреннему убранству. В путевых записках также отражается интерес А С. Грибоедова к культуре Ирана, хотя наблюдения за этой стороной жизни иранцев мимолетны и часто поверхностны.
Отмеченный ранее негативизм, которым пронизаны многие письма и записки поэта иранского периода, больше относится не к самой стране и ее культуре, а к нравам и поведению лиц, находящихся у власти. Так, будучи «еще не в настоящей Персии» (411), а только на пути к ней, А С. Грибоедов испытывает первые разочарования, наблюдая особенности политико-правовой системы иранцев. Сначала поэт отмечает, что «в делах государственных здесь, кажется, не любят сокровенности кабинетов: они производятся в присутствии многочисленных слушателей» (411), и в «простоте своего сердца» (411) делает вывод о том, что тем самым ограничивается и «редко во зло употребляется обширная власть, которой облечены здешние высшие чиновники» (411).
Однако, став свидетелем сцены объяснения своего поверенного в делах с сардарем, правителем иранского края, и видя все самовольство, деспотизм и жестокость «высокостепенного», к которому «многолюдное сборище» подданных относилось с подобострастием, А С. Грибоедов понимает, что попал в «варварскую землю» процветания «слепого рабства и слепой власти». Неслучайно А. Муравьев, хорошо знавший А С. Грибоедова, оценивал его дипломатическую миссию следующим образом: «Поездка его [Грибоедова] в Тегеран для свидания с шахом вела его на ратоборство со всем царством персидским» [Грибоедов в Персии 1818-1823, 1929, с. 44].
Повествователь [Грибоедова] способен дистанцироваться от своей уже сложившейся отрицательной оценки и дать окружающим его чиновникам и правителям более или менее правдивую оценку на основе реальных поступков и действий описываемых им лиц
Заключение
Критическое отношение АС. Грибоедова к восточному образу жизни пронизывает и его стихотворные произведения, созданные на основе впечатлений от пребывания в Иране и на Кавказе. Их основная тема - судьба православного христианина, в силу жизненных обстоятельств оказавшегося на чужбине, среди людей иной веры и культуры (отрывок из поэмы «Путник» - «Кальячи», стихотворение «Восток»),
Православного, соблазненного дивной мечтой о восточном рае, ждет в чужом краю только одиночество и одинокая, никому не нужная смерть. Последнее следует оценить как несомненную эволюцию образа Ирана: миф о восточном рае уступает место предельно объективному описанию реального положения дел. Русский, оказавшийся на чужбине, не найдет здесь изобилия и роскоши. Как пишет К.К. Бодэ в статье «Смерть Грибоедова» [Цит. по Ва-цуро, 1980, с. 236], «умение поддерживать достоинство русского имени на Востоке часто сопряжено с опасностью для жизни и требует особенного мужества и нравственной силы».
Список литературы Грибоедов как повествователь, художник и русский выдающийся государственный деятель в Иране
- Вацуро В.Э. Ю.Н. Тынянов и А.С. Грибоедов: из наблюдений над романом «Смерть Вазир-Мухтара» // Звезда. 2000. № 11. С. 154-158.
- Грибоедов в Персии 1818-1823 гг. // Библиотека документов, записок и воспоминаний. Кн. 25. Москва: Жизнь и знание, 1929. 117 с.
- Исаев Г.Г., Алексеева А.И., Воронова А.А. Гилян в русской литературе // Астрахань - Гилян в истории русско-иранских отношений. Астрахань: Изд-во «Астрах. гос. ун-т», 2004. С. 172-178.
- Краснов П.С., Фомичев С.А., Тархова Н.А. Грибоедов А.С.: Жизнь и творчество. Москва: Русская книга, 1994. 190 с.
- Орлов В.Н. А.С. Грибоедов: Очерк жизни и творчества. Москва: Гослитиздат, 1954. 276 с.
- Фомичева С.А. Грибоедов. Творчество. Биография. Традиция: сборник статей / Под ред. Ленинград: Наука, 1977. 295 с.
- Эйдельман Н.Я. Эпиграф Тынянова // Знание - сила. 1982. № 5. С. 43-45.