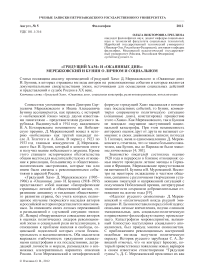«Грядущий хам» и «Окаянные дни»: Мережковский и Бунин о личном и социальном
Автор: Пчелина Ольга Викторовна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 5 (126), 2012 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу произведений «Грядущий Хам» Д. Мережковского и «Окаянные дни» И. Бунина, в которых отражены взгляды авторов на революционные события и которые являются документальными свидетельствами эпохи, источниками для осмысления социальных действий и представлений о судьбе России в ХХ веке.
"грядущий хам", "окаянные дни", социальная катастрофа, религиозная революция, интеллигенция
Короткий адрес: https://sciup.org/14750191
IDR: 14750191 | УДК: 101.1:316
Текст научной статьи «Грядущий хам» и «Окаянные дни»: Мережковский и Бунин о личном и социальном
Совместное упоминание имен Дмитрия Сергеевича Мережковского и Ивана Алексеевича Бунина ассоциируется, как правило, с историей о «нобелевской гонке» между двумя известными писателями – представителями русского зарубежья. Выдвинутый в 1914 году академиком Н. А. Котляревским номинантом на Нобелевскую премию, Д. Мережковский вошел в историю «нобелианы» как третий кандидат после Л. Толстого и А. Кони. В период с 1923 по 1933 год главным конкурентом Д. Мережковского был И. Бунин, который в конечном итоге и получил звание нобелевского лауреата. Кроме этого ставшего историческим обстоятельства общим местом для мыслителей стало их отношение к революции, большевизму и общественнополитическим настроениям, которые так или иначе были связаны с революционными событиями в царской России.
«Грядущий Хам» Д. Мережковского (1905– 1906) и «Окаянные дни» И. Бунина (1918–1919) представляют собой важные «биографические страницы» личной и общественной жизни, отразившие динамику и тенденции общественного развития страны, без учета которых полноценное изучение творческого наследия авторов и российской истории представляется невозможным. За описанием своих личных переживаний и размышлений о «духовной ситуации эпохи» (К. Ясперс) обнаруживается совпадение авторов в оценках политических лидеров революционной эпохи и социальной роли интеллигенции, в отношении к проблеме насилия и свободы, социальной подоплекой которых стали бесконтрольность и вседозволенность. Оба мыслителя выражали озабоченность грядущими социальными катастрофами и их последствиями, деградацией личности и морали, размышляли о возможных альтернативных вариантах спасения России. Если Мережковский в метафорической формуле «грядущий Хам» высказался о возможных последствиях событий, то Бунин, комментируя современную политическую ситуацию («окаянные дни»), констатировал пришествие этого «Хама». Как Мережковского, так и Бунина не покидало ощущение наступившей национальной катастрофы. При этом независимость авторских оценок друг от друга не вызывает сомнения: в своих дневниковых записях поэтесса З. Гиппиус, жена и единомышленник Д. Мережковского, отметила, что «с таким большим писателем, как Бунин, мы до Парижа не были знакомы лично вовсе» [4; 301].
Знакомство писателей состоялось осенью 1920 года и переросло в близкие отношения: семьи вместе проводили летние месяцы в Германии и Франции, Мережковские присутствовали на венчании И. Бунина и В. Муромцевой. Несмотря на некоторое охлаждение в частном общении, связанное с различными творческими установками писателей и напряженной ситуацией с получением Нобелевской премии, литературные знаменитости сохранили доброжелательные отношения на долгие годы [19].
«Идеолог русского символизма» Д. Мережковский и «политический вождь русской эмиграции» И. Бунин поставили перед собой задачу: описывая личные впечатления, подчас слишком эмоциональные, дать социально-политическую и нравственно-философскую оценку происходящего. Катастрофизм мировосприятия, вызванный близостью наступления социального апокалипсиса, был присущ многим символистам. С приближением революционных настроений подобные взгляды получили политическую окраску. Историк русского зарубежья С. А. Левицкий отмечал, что «в контраст Брюсову, который приветствовал появление новых варваров в своем известном стихотворении “Грядущие гунны”», Д. С. Мережковский проклинал их как
«носителей новых катастроф», используя при этом известные предсказания революции в романе Достоевского «Бесы» [9; 275].
Возможно, словосочетание «грядущий Хам» возникло как реакция на брюсовских «Грядущих гуннов», но не исключено также влияние стихотворения Г. Спенсера «Грядущее рабство», изданного в Петербурге в 1884 году [10; 338]. Сам автор впервые указал на библейский источник метафоры «хамства» в цикле «Маленькие мысли» (1912), процитировав строки из ветхозаветных «Притчей Соломона»: «Что такое “хам”? Земля трясется и не может вынести раба, когда он делается царем». Статья «Грядущий Хам» в первоначальном варианте вышла в свет в третьем номере еженедельника «Полярная звезда» (1905). Обличая мещанство, европейский рационализм, Д. С. Мережковский предупреждал против «худшего из всех рабств – мещанства, и худшего из всех мещанств – хамства, ибо воцарившийся раб и есть хам, а воцарившийся хам и есть чорт… – грядущий Князь мира сего, Грядущий Хам» [12; 43]. Новая редакция «Грядущего Хама» (1906) представляла собой объединение текстов двух статей – «Мещанство и русская интеллигенция» и «Грядущий Хам».
Прогнозируя противоречивые отзывы современников, З. Гиппиус прокомментировала позицию автора, отметив, что Д. С. Мережковский нередко «шел против общего течения (или стояния), и его статьи вроде “Грядущего Хама” вызывали самые разнородные отклики» [4; 154].
Положительной можно назвать рецензию В. Брюсова «Чорт и Хам», в которой отмечалось, что разоблачение пошлого, посредственного и серого является свидетельством верности автора братству «людей истинной культуры» и создает почву для сотрудничества. В положительном ключе оценил статью и А. Белый, написав, что Мережковский показал «картину современности, нарисованную столь ярко в “Грядущем Хаме”».
В целом же оценка работы была отрицательной: критики отмечали излишний социальный пессимизм автора, явное преувеличение опасности, сомнения в творческих возможностях демократии. Так, Ф. Сологуб назвал хамство «грязным пережитком старого строя», высказал мысль о том, что хамство «не приходит, а уходит», и обвинил Мережковского в страхе перед будущим [8; 192]. Р. В. Иванов-Разумник выразил отрицательное отношение уже в названии статьи – «Клопиные шкурки», Н. Минский высказался о том, что автор «Грядущего Хама» посягнул на достоинство революционного рабочего.
Продолжая акцентировать внимание на «раз-нуздании хаоса» в статье «Мистические хулиганы» (1908), сам Д. С. Мережковский отмечал: «Я говорил некогда о Хаме грядущем: боюсь, что скоро придется говорить о пришедшем Хаме» [13; 114].
Вернувшись летом 1908 года после трехлетней эмиграции в Петербург, Д. Мережковский обнаружил, что «ничего не убавилось и не прибавилось», «ничего не произошло», только усилилось «чувство конца». За «печатью смерти» на лице родного города Мережковский увидел трагедию времени, народа, страны, высказав свои мысли в сборнике статей под названием «Больная Россия» (1910). Статья «Еще шаг Грядущего Хама» (1918) продемонстрировала реакцию Мережковского на явление футуризма [15], а октябрьские события 1917 года только усилили его опасения: «Торжествующая русская демократия открыла дверь перед “царем-народом”, и вошел Торжествующий Хам» [14; 209].
С мнением Д. С. Мережковского о футуристах солидаризировался поэт А. Белый: «То-магавок “грядущего Хама” грозит Джоконде», свои выводы о победе «великой социальной революции» сделал М. А. Булгаков в эссе «Грядущие перспективы» (1919). В «Окаянных днях» (1918–1919) И. А. Бунин признал, что наступило время «поголовного хама и зверя», тем самым подтвердив высказывания Д. Мережковского.
«Окаянные дни» представляют собой дневниковые записи, ведущие свой отсчет с 1 января 1918 года и освещающие первые послереволюционные годы в России. Назвав окаянными дни революции и Гражданской войны, И. А. Бунин выразил свое резко отрицательное отношение к Октябрьской революции 1917 года. «Окаянный» созвучно библейскому имени Каин, человеку, который первым на Земле пролил родную кровь, тем самым осквернив весь людской род и породив ненависть человека к человеку. В русском обществе окаянными называли нечестивых, преступных, преданных всеобщему поруганию, грешников.
«Окаянные дни», в отличие от «Грядущего Хама», печатались с большими перерывами в период 1925–1927 годов в парижской газете «Возрождение». На родине автора дневник был опубликован только в восьмидесятые годы. Оценка советскими исследователями творчества И. А. Бунина была неоднозначной. При публикации в «Литературном обозрении» были сокращены выпады в адрес Ленина, некоторые критики не придавали должного значения или попытались обойти вниманием «Окаянные дни». Так, А. Нинов отметил, что «Окаянные дни» с художественной стороны не представляют никакой ценности: «Нет здесь ни России, ни ее народа в дни революции. Есть лишь одержимый ненавистью человек. Эта книга правдива лишь в одном отношении – как откровенный документ внутреннего разрыва Бунина со старой либерально-демократической традицией» [3; 264]. О. Михайлов сравнивал автора с юродивым, который, «шевеля вершами, под звон дурацкого колокольчика исступленно кричит хулы... проклинает революцию» [17; 187]. К 120-летию со дня рождения писателя в общественно-политическом журнале «Слово» (раздел «Неизвестный Бунин») прозвучало, что это были «пророческие мысли незабвенного Бунина, не дрогнувшего произнести высокую правду об Октябрьской революции и ее вождях», а также приведено мнение М. Алданова, считавшего, что в «Окаянных днях» есть лучшие страницы из всего написанного русским писателем.
«Грядущий Хам» и «Окаянные дни» соотносились авторами с общественно-политической ситуацией в России, поэтому оценку этих произведений можно признать яркой иллюстрацией идейных установок отдельных критиков и индикатором социального самочувствия и политических настроений общества в целом.
Размышления над историческим бытием обостряются, как правило, в критические, переходные периоды в жизни общества. Начало ХХ века совпало с глобальными потрясениями в российской истории, которые выразились в событиях трех русских революций и Первой мировой войны, событиях, которые стали переломным и решающим моментом в духовных судьбах многих русских людей. Чувство сопричастности авторов к данным историческим событиям, их хронологическое отражение (дневниковая форма) придают написанному особую ценность. В связи с этим представляется, что исследуемый материал вполне уместно дополнить работами, так или иначе отражающими социально-политические и духовные воззрения Мережковского и Бунина. Цикл статей «Больная Россия» (1908–1910), написанный Мережковским после «Грядущего Хама», как нельзя более точно дополняет сказанное им ранее, в то время как в Дневнике (1917–1918) Бунина, предваряющем «Окаянные дни», уже отчетливо просматриваются антире-волюционные настроения.
Предупреждая о возможных последствиях (Мережковский) и комментируя результаты (Бунин), мыслители едины в том, что, начавшись под лозунгом всечеловеческих ценностей и справедливости, претендуя на закономерный итог исторического развития страны, российские революционные события вылились в насилие, классовую борьбу, диктатуру и тоталитаризм.
Исследуя природу революции, Д. С. Мережковский обращается к истории и приходит к заключению, что все революционные перевороты – политические и социальные – были внешними, поверхностными, мнимыми, начиная с освобождения, заканчивались своей противоположностью – порабощением. Раскрывая сущность революции, Д. С. Мережковский обращает внимание на идею классовой борьбы, поскольку «именно эта идея… вплоть до всемирной войны междоусобной, поглощающей все войны международные», является «единственно желанной и действительной» в революционном развитии. Два класса – это два духа, борьба двух
«антиномий метафизических», которая, по Мережковскому, будет безысходной и бесконечной, поскольку единственная цель междоусобной войны – истребление. Общественно-политические события 1905 года подвергли сомнению представления Д. С. Мережковского о благородных намерениях пролетариата.
Обозначив революцию как тип социального действия без санкций и гарантий, охарактеризовав русскую революцию как социальную распущенность и хулиганство, беззаконие, автор «Окаянных дней» записал о революционных временах: «…бьют и плакать не велят» [2; 231].
Анализ революционных событий в разных странах позволил И. Бунину сделать вывод: «…как они одинаковы, все эти революции!»; хаос, «бешеная жажда игры, лицедейства, позы, балагана» являются характерными чертами всякой революции. Признаки «одинаковости» виделись автору также в стремлении создать «бездну новых административных учреждений», учредить многочисленные комитеты, союзы, партии, открыть «водопад» декретов, циркуляров, увеличить число комиссаров – «непременно почему-то комиссаров» и «вообще всяческих властей» [2; 126].
«Новые господа» жизни, по мнению Бунина, грубы, жуликоваты, недалеки, невежественны, но именно такие и выживут благодаря своей неразборчивости в выборе жизненного идеала и средств для достижения цели. Не вызывали оптимизма у автора и «вчерашние кухарки», которые должны были управлять страной, а участие в русской революции «уголовной» стихии не принималось категорически: «…напустили из тюрем преступников, вот они нами и управляют, а их надо не выпускать, а давно надо было из поганого ружья расстрелять» [2; 108].
Именно против этого и предостерегал в свое время автор «Грядущего Хама»: приравняв мещанство к хамству, Мережковский увидел у «грядущего на царство» российского мещанина «три лица». Первое, «настоящее», – «лицо самодержавия», отделяющее русский народ от интеллигенции и церкви; второе, «прошлое», – лицо православия: церковь, подчинившаяся царизму; третье, «будущее», – «лицо хамства, идущего снизу – хулиганства, босячества, черной сотни». Согласно автору, именно «третье лицо» является самым страшным из всех [12; 43].
Новый режим, связанный с приходом к власти низов, ассоциировался у обоих мыслителей с проявлением вседозволенности. В связи с этим особенно остро встает вопрос нравственной составляющей революции, темы насилия, «противоестественной свободы от всего», произвола, распущенности, когда «наследники колоссального наследства» – босяки – афишируют зверства под идеей осуществления «гнева низов, жертв социальной несправедливости» [2; 171].
Лейтмотивом «Грядущего Хама», «Окаянных дней» и дневников писателей является вопрос о ценности человеческой жизни. Если возмущение бедных чревато социальной нестабильностью, то возмущение среднего класса гораздо опаснее: для него становятся необъяснимыми многие привычные явления жизни. Он может озлобиться, замкнуться или проявлять явные пороки, и тогда «в человеке просыпается обезьяна» (Бунин), «сердце человеческое» превратится в «сердце звериное», и сущностью такого нового тела станет «Великий Хам» (Мережковский).
Повальным сумасшествием называет Бунин состояние, в котором пребывает общество: «…на лице рабочего играет злая и веселая улыбка, пренебрежение», «раньше, чем немцы придут, мы вас всех перережем, – холодно сказал рабочий и пошел прочь», «на Петровке монахи колют лед. Прохожие торжествуют, злорадствуют…», слуга Андрей, который прослужил почти двадцать лет, «всегда был неизменно прост, мил, разумен, вежлив, сердечен к нам. Теперь точно с ума спятил. Служит еще аккуратно, но, видно, уже через силу, не может глядеть на нас… весь внутренне дрожит от злобы...» [2; 89–93].
Мыслители солидарны в том, что если общество культивирует «человека бунтующего» и использует его, то и человек может использовать общество для достижения своих утилитарных целей. Зерна, брошенные в подходящую почву, непременно взойдут. Результатом такого «посева»-предостережения может служить описанная Ж. П. Сартром «свободно тотали-зирующаяся группа». В отличие от «коллектива» – собрания индивидов, единых в своем приспособлении к обществу и детерминистскому оправданию поступков, «свободно тотализи-рующаяся группа» действует во время событий, связанных со штурмами, получает возможность «отбросить благоразумие», «быть самими собой» и «жить полной жизнью». Революция при этом выглядит политически оформленной оргией [20]. Понимая революцию не как «праздник истории», а как действие, связанное с насилием, кровопролитием и уничтожением культуры, как неизбежное зло, и Мережковский, и Бунин отрицательно относились к эстетизации революционной практики, что было характерно для позиции В. Брюсова, А. Блока, А. Белого и других «коллег по цеху». Авторы высказывали опасение, что революционная стихия выйдет за пределы России и отзовется новыми социальными и вооруженными потрясениями в Европе. «Поджог Европы» грозит миру от «пожара» русской революции, предупреждал Мережковский, он «ругательски ругался» на большевиков – «трупов войны», демократов, нигилистов, анархистов и называл идеализм, реализм, плюрализм и все остальные «засушенные измы» «вечным бунтом вечных рабов» [5; 118].
Особое место в размышлениях писателей занимает тема интеллигенции и ее роли в социально-политических событиях. На вопрос «Кто виноват?» Бунин отвечает, что народ, при этом большую часть вины за происходящее возлагает на интеллигенцию. Опираясь на историю, Бунин определил, что интеллигенция во все времена провоцировала народ на баррикады, при этом сама оказывалась неспособной организовать новую жизнь.
Называя интеллигенцию «выразительницей живого духа России», Мережковский высказывает мысль о «новой идее» , которая соединила бы интеллигенцию, церковь и народ для борьбы с хамством. Реализацию такой идеи Д. С. Мережковский видит в соединении религиозного и общественного возрождения: «Ни религия без общественности, ни общественность без религии, а только религиозная общественность спасет Россию» [12; 13].
Считая русскую интеллигенцию воплощением «intellectus’a, р а зума, соз н ания Росси и », Д. С . Мережковский полагал, что интеллигенция должна прийти к религии, перестать быть только интеллигенцией и стать «Разумом Богочеловеческим», частью «вечной, вселенской Церкви Грядущего Господа», и определил задачу интеллигенции, состоящую в ответственности за судьбу России и сохранении русской культуры. «Хама грядущего победит лишь Грядущий Христос», – таков финал размышлений Мережковского.
В конечном итоге оба мыслителя уповали на религиозную, духовную составляющую изменения общественного строя и ведущую роль в этом процессе отводили русской интеллигенции. В отказе от государственного насилия и переходе к религиозной общественности, «от власти человеческой к власти Божьей», Мережковский видел решение социальных проблем. Именно такой путь способствовал преображению общества, а социальная революция имела смысл лишь при условии одновременно и религиозной революции, а точнее, их слияния, единства. Идея «слить неслиянное» – революцию и религию – не вызвала симпатий у современников, однако в предсказании Мережковского «воцарившийся раб и есть хам» содержалась «глубокая истина, объясняющая механизм зарождения и укрепления “бациллы тоталитарности”» [7; 180].
Бунин также констатирует, что свержение старого режима было осуществлено «ужасающе», а интернациональное знамя, поднятое над страной «взамен синайских скрижалей и Нагорной проповеди, взамен древних божеских уставов», расценивает как «нечто новое и дьявольское». В связи с этим представляется логичным завершение «Окаянных дней» следующими словами: «Часто заходим в церковь, и всякий раз восторгом до слез охватывает пение, поклоны священнослужителей, каждение, все это бла- голепие, пристойность, мир всего того благого и милосердного, где с такой нежностью утешается, облегчается всякое земное страдание. И подумать только, что прежде люди той среды, к которой и я отчасти принадлежал, бывали в церкви только на похоронах!..» [2; 243].
Многие русские мыслители, поэты, художники предсказывали революционный переворот в России, но одно дело приветствовать грядущие потрясения, другое – суметь ощутить себя внутри этих событий, реально оценить настоящее и спрогнозировать будущее. Два неординарных и творчески независимых человека смогли не только «дeйcтвитeльнo пpoзиpaть в жизни ee тpaгичecкyю зaкoнoмepнocть» (С. Булгаков), но и осознать всю сложность поставленных ими проблем. Нет необходимости говорить о том, что при кажущейся иногда непримиримости оценок и суждений опасения Мережковского и Бунина в определенной мере оказались пророческими и проявились в реальных событиях, когда «грядущий Хам» воистину оказался «пришедший сам» (В. Маяковский). Заслугу Д. С. Мережковского русские мыслители увидели и в том, что он «в большевистской революции 1917 г. усмотрел признак “Грядущего Антихриста”» [6; 333].
«Грядущий Хам» и «Окаянные дни» не только заняли видное место в творческих судьбах самих авторов, но и представляют собой несомненный интерес с точки зрения «свидетелей» социальных действий. Комментарий А. Солженицына, написанный им о сборнике «Вехи», опубликованном в 1909 году, с полным основанием можно отнести и к рассматриваемым в статье произведениям: «Сегодня мы читаем ее с двойственным ощущением: нам указываются язвы как будто не только минувшей исторической поры, но во многом – и сегодняшние наши» [18; 1].
Список литературы «Грядущий хам» и «Окаянные дни»: Мережковский и Бунин о личном и социальном
- Бунин И. Миссия русской эмиграции (Речь, произнесенная в Париже 16 февраля 1924 г.)//Бунин И. Великий дурман. М.: Совершенно секретно, 1997. С. 126-138.
- Бунин И. А. Окаянные дни. СПб.: Изд. группа «Азбука-классика», 2009. 320 с.
- Василевский А. Разорение III//Новый мир. 1990. № 2. С. 264-267.
- Гиппиус-Мережковская З. Дмитрий Мережковский. Париж: YMKA-PRESS, 2000. 309 с.
- Записные книжки и письма Д. С. Мережковского//Русская речь. 1993. № 5. С. 25-40.
- Ильин В. Эссе о русской культуре. СПб.: Акрополь, 1997. 464 с.
- Кондаков И. В. Введение в историю русской культуры (теоретический очерк). М.: Наука, 1994. 378 с.
- Корецкая И. В. Над страницами русской поэзии и прозы начала века. М.: ВЛАДОС, 1995. 380 с.
- Левицкий С. А. Очерки по истории русской философии. М.: Канон, 1996. 495 с.
- Мережковский Д. С. Акрополь: Избр. лит.-критич. статьи. М.: Книжная палата, 1991. 352 с.
- Мережковский Д. С. Больная Россия. Л.: Изд-во ЛГУ, 1991. 272 с.
- Мережковский Д. С. Грядущий Хам//Мережковский Д. С. Больная Россия. Л.: Изд-во ЛГУ, 1991. С. 13-45.
- Мережковский Д. С. Мистические хулиганы//Мережковский Д. С. В тихом омуте: Статьи и исследования разных лет. М.: Сов. писатель, 1991. С. 109-115.
- Мережковский Д. С. «Россия будет (Интеллигенция и народ)»//Дружба народов. 1991. № 4. С. 209-215.
- Мережковский Д. С. О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы//Мережковский Д. С. Л. Толстой и Достоевский. Вечные спутники. М.: Республика, 1995. С. 522-560.
- Мережковский Д. С. Еще шаг Грядущего Хама//Мережковский Д. С. Было и будет. Дневник. 1910-1914; Невоенный дневник. 1914-1916. М.: Аграф, 2001. С. 344-353.
- Михайлов О. «Окаянные дни» Бунина: Литературная критика//Москва. 1989. № 3. С. 187-202.
- Сол женицын А. И. Образованщина//Новый мир. 1991. № 5. С. 28-46.
- Устами Буниных. Дневники Ивана Алексеевича и Веры Николаевны и другие архивные материалы/Под ред. М. Грин: В 3 т. Т. 2. Frankfurt am Main: Посев, 2005. 318 с.
- Critique de la raisön dialectique. Vol. 1-2. Paris, 1985.