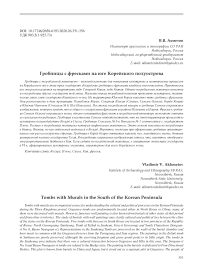Гробницы с фресками на юге Корейского полуострова
Автор: Ахметов В.В.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья
Статья в выпуске: т.XXVI, 2020 года.
Бесплатный доступ
Гробницы с погребальной живописью - важный источник для понимания культурных и политических процессов на Корейском п-ове в эпоху трех государств. Когурёские гробницы с фресками наиболее многочисленны. Практически все они располагаются на территории либо Северной Кореи, либо Китая. Однако погребальная живопись известна и в погребениях других государств той эпохи. Изучение таких погребений позволит прояснить культурные, политические связи элит государств Корейского п-ова. На территории Южной Кореи известно пять гробниц с фресками. Они расположены в двух провинциях Республики Кореи: Северная Кёнсан (Сунхын, Сунхын Осукмё, Корён Коари) и Южная Чхунчхон (Сонсалли № 6, Пуё Нынсалли). На стенах погребальной камеры в гробнице Сунхын сохранились изображения, которые имеют много общего с когурёскими фресками из района Пхеньяна и Цзианя. Фреска в гробнице Сунхын Осукмё сохранилась плохо, однако оставшийся фрагмент и погребальный инвентарь позволяют считать ее силласким погребением. Гробницы в местности Сунхын свидетельствуют, что на этой территории происходило культурное взаимодействие Когурё и Сияла. Гробницы Сонсалли № 6 и Нынсалли № 1 соотносятся с государством Пэкче. Роспись в погребениях посвящена четырем мифическим животным. Этот сюжет известен по погребениям в Китае, Японии, но как отдельный выделился в Когурё. Вероятно, пэкчесцы при оформлении гробницы ориентировались как раз на когурёские образцы. Гробница в Корён Коари считается каяской, т.к. находится в месте, бывшем центральной частью государства Тэгая. В погребении сохранились изображения лотоса, что, вероятно, отображает распространение буддизма в Кая. Если судить по погребальной живописи, к завершению эпохи трех государств в VI в. сформировались культурные элементы, характерные для всего Корейского п-ова.
Когурё, пэкче, сияла, кая, фрески
Короткий адрес: https://sciup.org/145145626
IDR: 145145626 | УДК: 903.5(1-925.73) | DOI: 10.17746/2658-6193.2020.26.351-356
Текст научной статьи Гробницы с фресками на юге Корейского полуострова
Для Дальнего Востока гробницы с фресками являются характерным историческим источником, известным начиная со времен империи Хань, когда подобного типа погребения распространились на обширной территории. Некоторые из таких погребений особенно ценны тем, что на фресках изображено большое количество самых разных деталей быта ханьской эпохи (например, погребения Цзягугуань, Хорингер [Крюков и др., 1983, с. 255; Кравцова, 2004, с. 245–246]).
Традиция погребальной живописи проникла и на Корейский п-ов, где она достигла расцвета в эпоху трех государств, в частности в Когурё, начиная со второй половины IV и до VII в. н.э. Когу-рёские погребения с фресками сконцентрированы в основном в районе г. Пхеньян (КНДР) и в районе г. Цзиань (КНР). Их научное изучение ведется с начала XX в. [Стоякин, 2019, с. 231]. Погребения с живописью привлекали внимание и отечественных исследователей [Alkin, 2006, p. 102]. Однако погребальная живопись эпохи трех государств не ограничивается только когурёскими гробницами, фрески встречаются и в погребениях других государств той эпохи. В настоящий момент территории этих государств практически полностью располагаются в пределах границ Республики Кореи.
На данный момент на территории Южной Кореи гробниц с фресками известно всего пять, что, конечно, сложно сравнивать с большим разнообразием таких гробниц на севере Корейского п-ова. Однако на юге полуострова располагались сразу несколько государств, поэтому гробницы с фресками здесь представлены не только когурёскими, но и пэкческими, силлаской и каяской. Несмотря на свою малочисленность, такого рода погребения довольно ценный источник для понимания культурных и политических связей между элитами трех государств.
Гробницы с фресками на территории Республики Кореи административно расположены в двух провинциях: Северная Кёнсан (погребения Сун-хын, Сунхын Осукмё, Корён Коари) и Южная Чхунчхон (погребения Сонсалли № 6, Пуё Нын-салли) [Намханый, 2019, с. 11]. Географически все они расположены ближе к центральной части полуострова.
В районе Йонджу найдены два погребения с фресками. Одно из них специалисты считают 352
когурёским (Сунхын), другое силласким (Сунхын Осукмё). Могилы находятся в 600 м друг от друга на разных склонах небольшой горы Пибонсан. Погребения довольно далеко располагаются как от столицы Силла – Кёнджу, так и от столицы Когу-рё – Пхеньяна.
Погребальное сооружение Сунхын имеет сходство с гробницами в Яксури, Поксари, Токхынни [Когурё юджокый, 2009, с. 157; Когурёый, 2013, с. 144, 426]. Эти погребения обычно датируются V в. н.э. и располагаются в районе г. Пхеньяна.
Гробница Сунхын была разграблена. В нее, скорее всего, неоднократно проникали. Тем не менее в погребальной камере Сунхын сохранились кости, поэтому удалось понять, что здесь были похоронены мужчина ок. 40 лет, женщина ок. 20 лет и ребенок. Из погребального инвентаря сохранились отдельные фрагменты керамических сосудов, которые определяются как силлаские и датируются как минимум второй половиной V в.
Самым ценным источником по изучению гробницы является фреска. Основные элементы изображения, которые удалось вычленить из сохранившихся фрагментов, – это силачи, человек, птицы, деревья, гора, узоры в виде облаков и пламени, узоры в виде цветков и листьев лотоса.
Судя по о ставшимся фрагментам, сюжетное повествование, изображенное на фреске, было посвящено бытовым сценам из жизни погребенного здесь представителя знати. Проход в погребальную камеру охраняют два силача (кор. ёксасан ). На северной стенке изображен лотосовый пруд и сцена охоты. На восточной и западной стенках (в их северных частях) изображены солнце и луна соответственно. На южной стенке имеются рисунки цветов, листьев, плодов лотоса.
На южной стенке сохранилось изображение знамени, развевающегося на древке в руке воина (рисунок самого воина почти не сохранился). Изображения воинов со знаменами в руках встречаются в когурёских фресках [Когурё юджокый, 2009, с. 158, 164]. Однако есть примеры и в силласком искусстве. На барельефе силлаской буддийской пагоды из Намвона изображен воин со знаменем [Хо Хёнук, 2005, с. 9]. Пагода в Намвоне датируется IX в. Вероятно, такие изображения были характерны именно для буддийской художественной традиции.
Над знаменем имеется надпись из иероглифов, часть их утрачена. Из оставшихся можно понять, что надпись сделана в год кими , что соответствует 599, 539, 479, 419 гг. шестидесятеричного цикла. На данный момент большинство исследователей рассматривают 539 г. как наиболее вероятный год возведения этого погребения.
Силачи на входе в погребение, по всей видимости, должны были охранять проход в саму погребальную камеру. Силач на восточной стенке изображен покачивающим верхней частью тела, у него открыт рот, в котором видны зубы и особенно хорошо клыки, на лице нарисована короткая бородка, в руках – змея. Одежда у него имеется только в районе пояса. На ухе силача висит серьга, выполненная в форме бутона лотоса. Художник изобразил силача так, будто он вот-вот выбежит из погребальной камеры. Рисунок второго силача, на противоположной стене, сохранился хуже, но тем не менее по нему можно понять, что сделан он в такой же манере, как и первый. Изображение силача со змеей уже встречалось в когурёской гробнице Самсильчхон [Когурё юджокый, 2009, с. 274]. В гробнице Сса-нёнчхон нарисован небожитель со змеей на поясе [Джарылгасинова, 1972, с. 133].
На западной стенке погребальной камеры Сун-хын центральное место занимает рисунок ивы. Рядом с ивой читается изображение какого-то строения. Однако не совсем ясно, что именно это за сооружение. Возможно, это колодец по типу того, что известен по фреске из когурёского погребения Анак № 3 [Джарылгасинова, 1972, с. 50; Когурё юд-жокый, 2009, с. 251].
На северной стенке имеются рисунки цветков, плодов, листьев лотосов и рисунки облаков. По центру стенки изображены три птицы, летящие по небу. Облачный узор как на фреске в Сунхыне встречается в погребении Сусалли на восточной стенке погребальной камеры [Technical Report, 2018, p. 300]. Такого рода узор можно встретить и в гробнице Кансодэмё на потолочных камнях [Kangso, 1979]. Лотосовый узор из Сунхына (лепестки лотоса с чуть приоткрытыми цветками) схож с тем, что нанесен на потолочные камни в гробнице Муёнчхон [Когурё юджокый, 2009, c. 291].
На восточной стенке изображена птица на фоне солнца. Такая птица часто встречается на когурё-ских фресках, она рисуется с тремя ногами и называется по-корейски самджоко . Ее изображения известны по фрескам в погребениях Токхынни, Самсильчхон, Муёнчхон [Воробьев, 1961, с. 89; Джарылгасинова, 1972, табл. 1, с. 73]. Трехногая птица самджоко – центральный элемент позолоченного украшения головного убора из погребения Чинпхари № 9 [Когурё юджокый, 2009, с. 333].
Боковая плоскость погребального ложа в Сун-хын украшена комбинированным узором пламени и лотоса. Этот узор не характерен для когурёских фресок и скорее демонстрирует местные особенности. Подобный узор также найден в погребении Сунхын Осукмё, располагающемся поблизости.
Некоторые элементы фрески вполне можно отнести к буддийской иконографии – это лотосовые узоры на северной и южной стенках, серьга силача в виде бутона лотоса, узор на погребальном ложе. Да и самих силачей из Сунхына можно отнести к персонажам этой иконографии. Буддийская культура довольно поздно (относительно других частей Корейского п-ова) проникла в район Кёнджу, это произошло в VI в. н.э. Официальное принятие буддизма в Силла связывают с именем Попхын-вана (правил в 514–539 гг.). Сунхынская фреска позволяет говорить, что почва для официального принятия буддизма уже, видимо, была подготовлена. Птица, символизирующая солнце на восточной стенке, – это, в свою очередь, элемент, скорее, даосской иконографии. Отдельно на этом фоне выделяется рисунок ивы, которая могла выступать символом чистоты, жизнестойкости. Она, вероятно, отголосок из традиционных культов Корейского п-ова. Также на фреске есть и рисунки на бытовые темы.
Все это свидетельствует о тех религиозных представлениях, которые были распространены в районе Сунхын среди знати в V–VI вв. н.э., и о некоторых бытовых моментах их жизни. В этом плане сунхынская фреска аналогична другим когу-рёским росписям, для которых было характерно такое переплетение сюжетных элементов.
Гробница Сунхын Осукмё (Тхэджанни Осук-мё) – однокамерное каменное погребение с входом, пристроенным к западной оконечности южной стенки камеры. Внутри погребальной камеры лежали две каменные плиты. Вход в камеру был заперт каменной перегородкой с просверленным отверстием по центру. В погребении сохранились только два рисунка: изображение двух женщин на плите, перекрывавшей вход в камеру, и цветка лотоса на потолке входа в камеру.
Также на каменной плите, которая перекрывала вход в камеру, со стороны, обращенной внутрь, обнаружена надпись из семи иероглифов. В ней указано имя погребенного – Осук (кит. Юйсу), по которому и стали называть погребение. В надписи еще указан и год шестидесятеричного цикла, который соотносится с тремя датами: 595, 535, 475 г. Наиболее вероятными годами возведения погребения кажутся 535 и 595 г. Внутри камеры есть также надпись явно более позднего времени. Учитывая, что там же найдены фрагменты корёской и чосонской керамики, внутрь погребения проникали довольно часто до момента его научных раскопок уже в XX в.
Местность Сунхын входила в состав государства Когурё (или по крайней мере в сферу его влияния) со времен правления Квангэтхо-тэвана (391– 413 гг.) и Чансу-вана (413–491 гг.) и до середины VI в. О том, что власть когурёских ванов простиралась далеко на юг Кореи, говорит также и находка когурёской стелы в Чхунджу в пров. Северная Чхунчхон. Однако в погребениях Сунхын и Сунхын Осукмё также были найдены отдельные фрагменты силласких керамических сосудов, которые датируются как минимум второй половиной V в. В местности Сунхын рядом с вышеописанными гробницами найдено больше десяти погребений в каменных склепах и каменных ящиках, в которых встречается погребальный инвентарь, характерный для силла-ских погребений, в т.ч. золотые серьги [Намханый, 2019, с. 246].
Фреска в гробнице Сунхын имеет много общего с когурёскими фресками, поэтому и саму гробницу обычно называют когурёской. В Сунхын Осукмё фреска сохранилась хуже. Погребальный инвентарь и расположенные рядом могилы позволяют называть ее силлаской. Хотя сама местность в районе современного г. Йонджу, как выше уже было упомянуто, в V–VI вв. была скорее местом переплетения когурёской и силлаской культурной традиции, поэтому однозначно говорить о принадлежности погребений довольно сложно.
Пэкческое погребение Сонсалли № 6 в районе г. Конджу располагается на одноименном могильнике Сонсалли, по соседству с гробницей Мурён-вана (501–523 гг.) [Никитина, 1997]. По датам правления вана можно примерно понять датировку всего могильника, как и тот факт, что здесь должны были располагаться усыпальницы правителей и их ближайших титулованных родственников.
Гробница Сонсалли № 6, как и могила Мурён-вана, сделана из кирпича, что выделяет ее на фоне других погребений на могильнике. Скорее всего, и статус погребенного в ней был сравним с правителем Пэкче. В Сонсалли № 6 на стенах погребальной камеры изображены четыре мифических животных. Их изображения встречаются в Китае, Японии того времени [Jeon Hotae, 2015], но как составные части более обширных сюжетных фресок. Именно в Когурё появляются гробницы, на фресках которых четыре мифических животных (кор. сасин ) занимают центральное положение. Это характерно и для гробницы Сонсалли № 6. Здесь на восточной стенке погребальной камеры был нарисован дракон (кор. чхоннён ), на западной – тигр (кор. пэкхо ), на южной стенке, над входом в камеру, – птица (кор. чуджак ), на северной – черепаха (кор. хёнму ). На данный мо-354
мент изображения практически не сохранились, однако остались материалы японских исследований 1930-х гг., в которых есть копии рисунков.
Изображения животных из Сонсалли № 6 очень схожи с теми, что найдены в когурёских погребениях. Рисунок тигра в таком же стиле и такой же позе имеется в погребении Чинпхари № 1 [Когурё юджокый, 2009, с. 197–203]. Обычно погребения с такими изображениями датируют второй половиной VI–VII в. н.э. [Гилев, 2009, с. 183]. Однако погребение в Сонсалли позволяет утончить, что такого рода погребения были характерны в целом для VI в. Гробница Сонсалли № 6 явно связана с гробницей Мурён-вана – они располагаются в непосредственной близости друг от друга и обе сделаны из кирпича. Сонсалли № 6 была возведена примерно в то же время, что и могила вана, т.е. в первой половине VI в. Пэкческая атрибуция Сонсалли № 6 не вызывает сомнений, но нельзя не отметить сильное влияние когурёской художественной традиции в оформлении фрески.
Гробница Пуё Нынсалли № 1 (Тонхачхон) также считается пэкческой. Она располагается в непосредственной близо сти от столицы Пэкче с 538 г. – Саби (современное название – Пуё). Нын-салли № 1 – одно из погребений на одноименном могильнике. Он состоит из семи крупных курганов с каменными склепами. Считается, что здесь хоронили ванов Пэкче или самых знатных представителей элиты. Погребальное сооружение Нынсалли № 1 делится на три составные части: вход, коридор, камера. Они были построены из каменных плит. Все три части были расположены в линию, так что общая длина каменного сооружения составляла 9 м. Изображения внутри гробницы сохранились плохо. Однако оставшиеся фрагменты росписей в погребальной камере показывают, что на фреске в Нын-салли № 1, так же как и в случае с Сонсалли № 6, были изображены четыре мифических животных. Лучше всего сохранились рисунки дракона на восточной стенке камеры и тигра на западной. Изображение тигра отличается от тех образцов, что известны по когурёским и китайским погребениям. На потолке погребальной камеры сохранилась роспись в виде облачного узора и изображения цветков лотоса с восемью лепестками. Восьмилепестные цветки лотоса встречаются на пэкческой черепице. На крышке серебряного сосуда из погребения Му-рён-вана также имеется изображение лотоса с восемью лепестками.
Погребальная роспись в Нынсалли № 1 во многом схожа с фреской из Сонсалли № 6 и демонстрирует процесс развития сюжета, связанного с изображением четырех мифических животных. Обе гробницы были, видимо, возведены пример- но в одно время, а именно во второй половине VI в. в период расцвета Пэкче при Мурён-ване и его преемнике Сон-ване.
Гробница в Корён Коари представляла собой каменный склеп. Он состоял из погребальной камеры и коридора к ней. Камера и коридор имеют сводчатую конструкцию. Они сложены из каменных глыб и валунов. Потолочные перекрытия в них сделаны из крупных каменных плит, которые и послужили поверхностями для нанесения фрески. На потолке камеры и коридора нанесены изображения цветков лотоса с восемью лепестками. Всего внутри погребения найдено 11 таких рисунков. Погребение было разграблено, от инвентаря сохранились бронзовые и железные гвозди, фрагмент керамики, фрагмент кости. Еще несколько фрагментов керамики было найдено при разборе курганной насыпи.
Изображения цветков лотоса в схожей художественной манере встречаются повсеместно в ко-гурёских и пэкческих, силласких погребениях, на пэкческих сосудах и кирпичах, на силласких изделиях. Рисунок лотоса в Коари свидетельствует, что каясцы активно взаимодействовали со своими соседями. Учитывая также, что лотос – непременный атрибут буддийской иконографии, можно предположить, что каяская элита активно воспринимала буддистскую религию.
Уезд Корён, в котором располагается гробница с погребальной живописью, был центром одного из каяских ранних государств – Тэгая. Временем его усиления был конец V в. Но уже в 562 г. Тэгая было завоевано государством Силла. Каяские государства имели тесные связи с Пэкче. Погребальное сооружение гробницы Коари схоже с пэкческими на могильнике Нынсалли и отличается от типичных для каясцев погребений в виде каменных ящиков. Вероятно, гробница в Корён была построена в период усиления Тэгая, т.е. в первой половине VI в. Государство Пэкче было ближайшим соседом, чьим младшим союзником зачастую выступали ка-ясцы. Сооружение гробницы, во многом схожей с пэкческими по конструкции, с погребальной живописью внутри свидетельствует о том, что каяские правители теперь мыслили себя равными своему могущественному соседу.
Гробницы с фресками распространились на Корейском п-ове в эпоху трех государств. В основном традиция сооружения гробниц с погребальной живописью была характерна для Когурё. Вероятно, появление такого типа погребений на юге полуострова связано с влиянием когурёской культуры на соседние корейские государства. Это хорошо видно на примере погребений Сунхын в г. Йонджу, где силлаские и когурёские элементы тесно переплетены. То же самое можно сказать про пэкческое погребение с фресками, где запечатлены четыре мифических животных – сюжет, хорошо проработанный в когурёских погребениях. Кроме того, традиция погребальной живописи продолжалась и после эпохи трех государств в период Корё (918– 1392 гг.), элита которого считала себя как раз наследниками Когурё. Таким образом, можно утверждать, что появление гробниц с фресками на юге Корейского п-ова – вероятнее всего следствие в основном когурёского влияния. В целом, если судить по погребальной живописи, к завершению эпохи трех государств в VI в. сформировались культурные элементы, характерные для всего Корейского п-ова.
Работа выполнена по проекту НИР № 0329-2019-0007 «Изучение, сохранение и музеефикация археологического и этнокультурного наследия Сибири».
Список литературы Гробницы с фресками на юге Корейского полуострова
- Воробьев М.В. Древняя Корея (историко-археологический очерк). - М.: Изд-во Воет. лит., 1961. - 194 с.
- Гилев А.А. Хронология когурёских гробниц с фресками // Вести. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. - 2009. - Т. 8. - Вып. 5: Археология и этнография. - С. 175-185.
- Джарылгасинова Р.Ш. Древние когурёсцы (К этнической истории корейцев). - М.: Наука, 1972. - 202 с.
- Когурё юджокый оджева оныль (кобунгва юмуль) (Когурёские памятники вчера и сегодня (погребения и находки)). - Сеул: Тонбугаёксаджэдан, 2009. - 424 с. (на кор. яз.).
- Когурёый копун I (Ханбандопхён). (Когурёские погребения I (Корейский полуостров)). - Квачхон: Чинин-джин, 2013. - 640 с. (на кор. яз.).
- Кравцова М.Е. Мировая художественная культура. История искусства Китая: уч. пос. - СПб.: Лань, TPHADA, 2004. - 960 с.
- Крюков М.В., Переломов Л.С., Софронов М.В., Чебокеаров Н.Н. Древние китайцы в эпоху централизованных империй. - М.: Наука, 1983. - 416 с.
- Намханый кобунбёкхва (Южнокорейские гробницы с фресками). - Тэджон: Куннипмунхваджэёнгусо, 2019. -328 с. (на кор. яз.).
- Никитина М.И. Пэкческий единорог в связи с мифом о матери-тигре и ее сыне-олене // Вестн. Центра корейского языка и культуры. - 1997. - Вып. 2. - С. 136160.
- Стоякин М.А. Вклад Эдуарда Шаванна в изучение Когурё // Там, где цветет мугунхва и распускается сакура. Слово об ученом. - Казань: Бук, 2019. - С. 228-233.
- Хо Хёнук. Сильсанса пэкчанам сотхабый обансин-санэ кванхан кочхаль (Изучение каменной пагоды Пэк-джанам храма Сильсанса в Намвоне) // Мисульсаёнгу (Изучение истории искусства). - 2005. - № 19. - С. 3-30 (на кор. яз.). 12.Alkin S.V. Traditions and trends in the Russian study of Koguryo History // J. of Inner and East Asian Studies. -2006. - Vol. 3-1. - P. 95-107.
- Jeon Hotae. The Murals of Takamatsuzuka and Kitora Tombs in Japan and Their Relationship to Goguryeo Culture // J. of Korean Art and Archaeology. - 2015. -Vol. 9. - P. 64-77.
- Kangso three tombs. - Pyongyang: The Korean Central Historical Museum, 1979. - 20 p.
- Technical Report on the Safeguarding of the Koguryo Tombs in the DPRK (Phase III). - P.: UNESCO, 2018. -421 p.