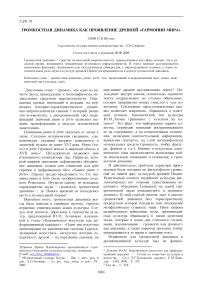Громкостная динамика как проявление древней «гармонии мира»
Бесплатный доступ
Громкостная динамика - средство музыкальной выразительности, принадлежащее как сфере музыки, так и реальной жизни, являющееся повышенным источником информативности. В статье впервые рассматривается взаимосвязь феномена, понимаемого как онтологическая универсалия, с мироощущением человека, а также исключительная роль звука в культуре древней Индии, раскрывающегося в аспекте громкостной динамики.
Громкостная динамика, этос, проявленный и непроявленный звук, канон, канонический тип культуры
Короткий адрес: https://sciup.org/148100228
IDR: 148100228 | УДК: 78
Текст научной статьи Громкостная динамика как проявление древней «гармонии мира»
Дихотомия «тихо — громко», как одно из качеств звука, принадлежит к неспецифически музыкальным средствам выразительности. Ощущаемая прежде интонаций и мелодий, на первичном сенсорно-характеристическом уровне, она антропологически связана с историей развития человечества, а диахронический срез модификаций значений piano и forte позволяет выявить трансформации в модусах человеческой экзистенции.
Понимание piano и forte менялось от эпохи к эпохе. Согласно историческим сведениям, «динамические указания впервые появляются в лютневой музыке не ранее XVI века. Piano (тихо) и forte (громко) вошли в широкий обиход в XVII веке»1. Исследователи называют имя итальянского композитора Дж. Габриели, который впервые письменно зафиксировал обозначение динамики, назвав свое сочинение для тр ё х скрипок и цифрованного баса « Sonata piano e forte ». Однако трудно представить то, что термины piano и forte были «изобретениями» позднего Ренессанса. Неужели одному из исходных характеристик звука – громкости, громкостной динамике – до Нового времени не находилось места в музыкальной теории?
Вероятнее всего, громкостная динамика всегда была вписана в стройную систему, строгую иерархию универсальных кодов культуры. Следуя этой гипотезе, обратимся к типологии культур, предложенной Ю.М. Лотманом, изложенной в статье «Каноническое искусство как информационный парадокс»: «Один тип искусства ориентирован на канонические системы («ритуа-лизованное искусство», «искусство эстетики тождества»), другой – на нарушение канонов, на
° Шутова Ирина Владимировна преподаватель Саратовского областного колледжа искусств, аспирант.
этос; проявленный и непроявленный звук; канон; кано- нарушение заранее предписанных норм»2. Нахождение внутри канона, изначально заданного текста подразумевает не столько обновление, сколько приращение новых смыслов к уже известному. Соблюдение предустановленных правил позволяет вопрошать, обращаться к извечным истинам. Канонический тип культуры Ю.М.Лотман сравнивает с «узелком на па-мять»3. Тот факт, что информация заранее известна, переводит внимание воспринимающего не на содержание, а на коннотативные созначе-ния, включение контекстуальной информации, выявление подтекста, на слой неспецифически музыкальных средств (громкость, тембр, фактура, фонизм и т.д.). Именно в искусствах канонического типа представляется возможным найти изначальное понимание и отношение к гром-костной динамике.
И действительно, проблема характера произнесения была осознана на философском уровне, ещ ё до нашей эры, культурой древней Индии. Религиозный концепт индийской культуры регламентировал все стороны существования верующего, объединяя (замыкая) их идеей синкретической связи имманентного и трансцендентного. В этой строгой системе звук в аспекте громкостной динамики был характеристикой, посредством которой находила свое воплощение метафизическая сущность мира. Имея широко разработанную концепцию звука, древнеиндийская культура обращалась к таким качествам звука, которые в наши дни считаются служебными, подчиненными – громкость или громкост-ная динамика, а также характер звучания, тембр, понимавшиеся в то время в значении этоса.
Первичным для громкостной динамики в древнеиндийской культуре был не физико- акустический аспект феномена, а его энергийное проявление. За громкостью звука признавалась способность через качество произнесения звука «открывать» определенный, неявленный до того момента смысл, он [звук] становился проводником в сферы трансцендентного. Именно в звуковой материи находил своё воплощение сакральный канон. В соответствии с этим, порядок зву-коизвлечения также был строго регламентирован, уже в памятниках санкритской письменности (II тыс. до н.э. – I тыс. н.э.) давался строгий свод правил. Как пишет Е.М.Гороховик, произнесение ведийских текстов – «особым образом организованное манипулирование звуковой материей, своего рода интонированное чтение, или кантилляция. Точнейшее соблюдение правил звукового воплощения ведических текстов было ограничено рамками сакрального канона. Вольности здесь были принципиально невозможны, поскольку в этом случае подвергался искажениям смысл процедуры, и апелляция к высшим силам не способна была достигнуть це-ли»4. Звук представлял собой сферу закрытого знания, в том числе о правилах произнесения, которые передавались только устно, то есть вибрации, энергийная сущность звука не должны были изменять своего качества. Если они записывались, то утрачивали некую часть присущих им «знаний». Индийская философско-религиозная традиция отдавала предпочтение «услышанному» (шрути) перед «прочитанным» (смрити), называя его наиболее подлинным и не отягощённым множественными интерпретациями.
Понимание звука было антропологичным. «Первое непосредственное проявление звука происходит … в теле человека и звук реализует себя, прежде всего, в работе голосового аппара-та…»5. Понятие «звук» было неразрывно связано с его восприятием, энергия звука локализовалась в теле человека: «Душа, стремящаяся выразить себя в речи, возбуждает ум; ум возбуждает телесный огонь, а тот, в свою очередь, приводит в движение воздух, находящийся в узле Брахмы. Двигаясь постепенно вверх, он порождает звук в пупе, сердце, горле, голове и во рту»6.
Характер звука на трансцендентном уровне можно условно назвать «помысленым». Согласно древнеиндийским трактатам, «жизнь» звука отличалась сложной иерархией и начиналась задолго до собственно появления звука. Считалось, что мир пронизывается Звуком, который может быть как проявленным, так и непрояв-ленным для нашего слуха. Существуют также иные определения – ударенное и неударенное бытие звука. «Неударенный звук есть звучание акаши. Термином «акаша» обозначается особая звучащая субстанция, невидимая, неосязаемая, заполняющая собой все пространство. Звучание акаши недоступно человеческому слуху и определяется как непроявленный звук, который становится слышимым только при воздействии на акашу ударом друг о друга двух плотных суб-станций»7.
Непроявленный звук подобен импульсу, потенциальной возможности. В процессе его материализации, перехода на уровень имманентного «одним из главных источников и проводников звучания … считается человек, его тело, организм, его ментальные и психофизиологические качества. Матанга в «Брихаддеши» называет пять видов звука, проявленного посредством различных участков тела: звук неуловимый, едва уловимый, ясный, неясный и искусственный8. Древнеиндийскую концепция опредмечивания звука легко сопоставить с дихотомией «тишина – шум», где опредмечивание звука идет от предощущаемого, но вместе с тем наполненного смыслом, а затем и осознанного («ясный» звук), переходит в фазу отрицания, переизбытка (громкости, информации) и, наконец, превращается в искусственный. Впрочем, возникает еще одна аналогия между пятью видами звука в Древней Индии и развитием музыки в целом, когда понимание звука эволюционировало от созерцаемого и умопостигаемого к передаче звука с помощью искусственных источников.
Неслышимые звуки – одна из важнейших и всеобщих характеристик мироустройства: «первоначальное состояние мира, первые этапы творения вселенной определены звуком, недоступным человеческому слуху космическим звуком « nada ». Музыка как выражение этого звука связана со всеми вещами и явлениями вселен-ной»9. «В древнеиндийских космогонических теориях нада трактуется мистически как на – универсальное дыхание ( прана ) и да – животворящий огонь. В слиянии этих двух начал, по мнению древнеиндийских философов, и формируются основы мироздания»10. Существует традиция сравнения нада с гудением, как фазой, предшествующей речи. Оно характеризуется континуальностью, неоформленностью, его можно сравнить с бессознательными процессами.
Восхождение от гудения к высшей речи напоминает «путь», который проходит мысль, обретая словесную оформленность.
Итак, в Древней Индии звук представал как проявление сущности мироздания, первоэлемент, и ведущей характеристикой, наряду с высотой, считалась громкость или степень его проявленности. Синкретичное понимание звука не отвергало его свойств (высота, длительность, громкость, тембр), но относило их к иному уровню бытия, сфере трансцендентного, не случайно, что именно тогда на первый план вышел чувст-венно-воспринимаемый параметр громкостной динамики. Ни одно качество звука не могло осуществиться без него, представленного категорией нада, в системе проявленного и непрояв-ленного звучаний. Посредством громкостной динамики координировалось все мироздание. Как синкретичное единство метафизического и акустического аспектов, «она взаимосвязана в системном целом с такими элементами, как сабда – звучание в его космологическом аспекте, кала – время в его хронологическом аспекте, и вак, или речь как биологическая составляющая все той же единой звуковой системы»11. Громкостная динамика, как качество звука, а также как пред-речевое гудение, изначальная вибрация, синхро- низировала и объединяла пространство, время и сознание.
Восстановление приоритетного значения громкостной динамики наблюдает современная культура, когда уровни громкости становятся названиями музыкальных произведений12. Феномен активно влияет на организацию музыкальной ткани произведения. Выстроенная в определенном порядке, с закрепленными за градациями оттенков числовыми эквивалентами, то есть получившая возможность быть выраженной Числом, громкостная динамика принимает на себя смысловую нагрузку тона в композиции, превращаясь в тематическую конструкцию. Наряду со звуками и ритмическими длительностями, она выступает в качестве модуса (как «целостного, конкретного по содержанию… художественно опосредованного состояния13») и вместе с этим снова обретает установку на вслушивание во вселенскую «гармонию сфер».
DYNAMICS LEVEL AS ASPECT OF ANCIENT «HARMONY OF THE WORLD»
Список литературы Громкостная динамика как проявление древней «гармонии мира»
- Музыкальный словарь Гроува/Пер. с англ. ред. и доп. Л.О.Акопяна. -2-е рус. изд., испр. и доп.-М.: 2007.
- Лотман Ю.М. Каноническое искусство как информационный парадокс//Статьи по семиотике культуры и искусства/Сост. Р.Г.Григорьева, предисл. С.М.Дани-эля. -СПб: 2002.-С. 317. Там же -С. 318
- Гороховик Е.М. Философия звука и этико-космогонические концепции в индийской классической музыке//Музыкальная культура Индии. -Минск: 2005. -С. 98. Там же. -С. 11
- Музыкальная эстетика стран Востока/Общ.ред. и вступ. ст.В.П.Шестакова. -Л.: 1967.-С. 39. Там же.-С. 67
- Гороховик Е.М. Философия звука и этико-космогонические концепции … -С. 112.
- Музыкальная эстетика стран Востока …-С. 69
- Гороховик Е.М. Философия звука и этико-космогонические концепции … -с. 98 Там же. -С. 76.
- Например, «Pianissimo» А.Г.Шнитке, «Тихие песни» В. Сильвестрова, «Crescendo e diminuendo» Э.Денисова.
- Назайкинский Е.В. Логика музыкальной композиции. -М.: 1982. -С. 239